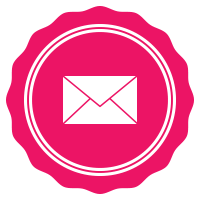...Я люблю тебя Будулай. Давно люблю. Еще в школе училась - в 8-ом классе, - когда поняла, что ты - главный мужчина в моей жизни. Я прочитала ЦЫГАНА - случайно прочитала... Кто-то забыл на скамейке в парке книжку, обернутую в постер с Джеймсом Белуши, которого я в тот период моей жизни обожала. Дома я развернула и расправила постер, прикрепила скотчем к стене в кухне прямо напротив того места, где обычно сижу. Налила чаю, открыла книжку... Я никогда раньше не читала книжки "деревенские", и фильмы про деревню не смотрела. А тут вдруг... Зачиталась я с первой страницы. Чай остыл. Подняла глаза на постер. У Белуши, мне показалось, ужасно холодный равнодушный взгляд. "Черт с ним, - подумала я. - Актер всегда играет. Даже в жизни".
Книжку я прочитала за ночь и утром в школу не пошла - не смогла пойти. Будулай оказался самым настоящим колдуном - он меня приворожил. Я ревновала его к Клавдии, к Насте, даже к Ване. Я хотела, чтобы он был только моим. Мама сказала за ужином, что ей очень понравился актер, который играл Будулая в сериале. Я смотрела этот сериал, но во мне он ничего не пробудил, этот актер. Никаких эмоций. Ну да, мне в ту пору было 12. Я помню, все женщины, мама в том числе, влюбились в этого Волонтира. Папа смеялся над ними. Мне захотелось посмотреть этот фильм снова. К счастью, его крутили чуть ли не по всем каналам. Выдержала 2 серии. Тот Будулай, про которого я прочитала в книге, был выше на сто голов. И красивей. И умней. И... Подруга сказала мне, что есть еще старый фильм с Евгением Матвеевым в главной роли. Другая дала мне кассету. Я готова была всех поубивать. Дерьмо. Мой Будулай был совсем другим. Цыгане когда-то жили в Индии, до этого в Египте... Ночами я пыталась представить его во плоти... Ни один из известных мне актеров не подходил даже близко. Они были такими... затрепанными и затертыми взглядами поклонниц. Мой Будулай был кем-то вроде... монаха. Нет, нет, он вовсе не монах, я не права. Он - сама страсть, природа, музыка. Забыла сказать: музыка в том фильме, где играет Волонтир, очень подходит моему Будулаю. Вот только ее заездили, до дыр затерли. Но ничего... Вскоре я поняла, что литературного героя представить во плоти невозможно. Мне нравился раньше Онегин, но я так и не смогла создать его образ во плоти. Он мне не так нравился, как Будулай - в Онегине нет тайны. Ловелас. Самовлюбленный к тому же. Мне в нем нравилась его свободолюбие. Понимал чувак, что брак - настоящая могила любви. Мне кажется, Будулай тоже это понимает... Да, я думаю о нем в настоящем времени. Кажется мне иной раз, что он рядом... Будулай, отзовись...
Мне сказали, что есть продолжение романа о Будулае. Я не нашла его в интернете. И в наших книжных лавках тоже. Где же его взять?!.
Евгения Д. Одесса.
АНАТОЛИЙ КАЛИНИН
ЦЫГАН
Девятая, заключительная часть, обнаруженная в архивах АНАТОЛИЯ КАЛИНИНА
Только одна машина с кузовом под брезентовым верхом ломится по дороге сквозь густой снегопад, даже включенными днем фарами едва нащупывая колею между лесополос.
Весь остальной автотранспорт застрял в степи на переносах, в балках и, съехав в кюветы, пережидает метель. Шофера топчутся, протянув руки к кострам и, согреваясь еще более надежным способом, передают по кругу фляги и бутыли, оплетенные виноградной лозой.
За уплывающими мимо упрямой машины проблесками костров сразу же и смыкается белая муть. Но в кабине тепло, и удары бушующего вокруг бурана не мешают разговору водителя с его спутником.
– Да, бушлаты на вас не по этой пурге.
– У нас-то здесь полный комфорт, а из моих афганцев, пока доедем, кочерыжки будут. – И спутник его с погонами капитана на бушлате оглядывается на оконце в кабине за спиной. – Не могли в аэропорт «икарус» прислать.
Водитель искренне протестует:
– Какие там «икарусы»?! Видели, сколько их по дороге стоит? Ко мне начальник конезавода лично на рассвете домой нагрянул. Только, говорит, и надежда на твой КамАЗ. Довезешь попутно до крепости свадьбу с гостями, а потом мы прямо из церкви на моем «уазике» молодых дошлем.
– До какой крепости?
– Которую между Доном и Донцом еще до вашей войны начали строить. Специально для иностранных делегаций и министров из Москвы. А теперь уже достраивал какой-то тип. В ресторане на обрыве вся область круглый год свадьбы играет, а с паромной переправы под обрывом он с марта до декабря, а иной раз и чуть ли не круглый год тоже имеет хороший доход. Сто рублей с грузовой, пятьдесят с легковой и с мотоциклов по четвертаку.
– Что за тип?
– Говорят, уже совсем седой, но еще могучий старик. Собирается вроде бы у государства конезаводы скупать.
– Все-таки притормози, я на своих ребят посмотрю.
– Напрасно беспокоитесь, товарищ капитан. На таких спецмашинах с обогревом мы зимой элиту перевозим.
Но водитель все-таки притормаживает свой КамАЗ и, пока подняв капот машины, с головой залезает под него, его спутник с погонами капитана на бушлате отворачивает краешек брезентового фартука кузова, спрашивая:
– Может, тоже погреемся у костра?
Ему отвечает из глубины кузова разнобой голосов:
– Незачем, товарищ капитан.
– Здесь и так как в бане.
– До тельняшек разделись.
– Надо до конезавода засветло добраться.
…И опять мощный КамАЗ, разгребая скатами и разбрызгивая снег, проламывается сквозь белую мглу, в то время как все другие машины стоят на обочинах и водители пританцовывают вокруг костров.
Водитель КамАЗа не без тщеславной гордости сообщает своему спутнику:
– Еще год назад он стоил триста тысяч, а теперь миллион. Почти как комбайн «Дон». – И, склоняя голову набок, к оконцу за спиной, прислушивается. – Поскидали бушлаты и уже под гитару поют. Сейчас я им лампочку включу.
В кузове машины ярко вспыхивает лампочка и при ее свете сразу же можно убедиться, что у пассажиров КамАЗа действительно есть все основания для того, чтобы, несмотря на стихию, бушующую в степи, петь песни. У одного из афганцев, раздевшихся в натопленном кузове до тельняшек, гитара в руках, и товарищи его, кто сидя на скамьях вдоль бортов, а кто и лежа в проходе на соломе, слушают, как он негромко поет:
Счастливым станет навсегда,
Кто вдруг нечаянно узнает,
Что беззаветная звезда
Его всю жизнь сопровождает.
С недосягаемых высот,
Его из вида не теряя,
Она ему лишь только шлет
Свой свет, дорогу озаряя.
Суровы лица солдат. Судя по всему, мысли их витают где-то далеко от них и от этой беспредельной степи с бушующей в ней метелью.
При свете том он набредет
На луг, никем еще не смятый,
И там судьбу свою найдет
В траве, безмолвием объятой.
Но, оказывается, не только мощному КамАЗу нипочем и снежная буря. Вдруг почти наперерез ему из глубины степи вырывается на перекресток дорог цыганская кибитка. На передке ее, натянув вожжи, правит двумя лошадьми цыганка, закутанная в теплые платки, а рядом с кибиткой едет верхом на лошади цыган в полушубке. Лошадь плохо подчиняется ему, цыган натягивает поводья, и она хрипит, выкатывая яблоки глаз. Перекрикивая ветер, цыганка спрашивает с передка кибитки:
– Куда ты на шоссе? Тут скоро шлагбаум должен быть.
– Они теперь все по своим будкам спят, – отвечает ей цыган.
Оглядываясь, она кричит еще громче:
– Машина! Завертай за лесополосу, Егор!
Но они не успевают завернуть. Сквозь завесу снега уже прорезались фары автомашины. Приближаясь, они освещают кибитку. Цыганка выхлестывает кнутом лошадей, цыган хлещет плетью своего коня, но куда им от КамАЗа уйти. Надвигаясь на кибитку и купая ее в потоке света, он лишь в самый последний момент, круто вильнув и сам накренившись, застывает в кювете под лесополосой. Как горох высыпались из него солдаты, водитель с воздетыми кулаками бросается к кибитке. Цыганка, замахнувшись на него кнутом, визжит на всю степь:
– Чуток не задавил! Куда смотришь? Разуй свои гляделки!
На всякий случай и цыган, с трудом справляясь с лошадью, кружит над головой кнут, не подпуская к себе солдат. Их командир, капитан, властной командой возвращает их к машине. Спрыгнув с передка кибитки, цыганка бросается к нему с занесенным кнутом. Как вдруг замирает точно вкопанная.
– Это ты?!
С суровым удивлением капитан встречно спрашивает у нее:
– А кто тебе нужен?
Вокруг уже смеются солдаты:
– Вот видите, товарищ капитан, вас и цыгане за своего признают.
Но капитан не признает за ними права над собой шутить:
– Вам бы не помешало историю нашего казачества знать. Из какой смеси оно произошло.
Цыганка подзывает мужа:
– Егор, посмотри-ка на него. Это же наш Будулай.
Но Егор, подъехав на своей норовистой лошади, говорит сердито:
– Тебе, Шелоро, в каждом встречном он чудится. Сравни, сколько ему уже было, когда он исчез, и сколько этому капитану теперь.
Цыганка жалобно настаивает:
– Он же, Егорушка, как выплюнутый.
Но теперь уже и капитан допытывается у них:
– О ком вы говорите? Куда исчез?
– Вам об этом ни к чему знать, капитан. У вас своя жизнь, а у цыган своя. Сегодня он появился, а завтра уже исчез. Но этот больше не появится. О нем даже цыганское радио уже молчит. Мы люди из природы. Вас могут и в чужую страну на войну погнать, а мы – вольные. Над нами никакого ни приказа, ни указа нет. Но насчет казаков я с вами согласен: у нас в донском кавкорпусе все нации казаками называли – и русских, и татар, и цыган. Погоняй, Шелоро!
И цыган заламывает поводьями голову своей лошади.
Но им приходится еще подождать, пока солдаты почти на руках вытащат из кювета залезший в большой сугроб КамАЗ и рассядутся в нем по местам. Последним садится в кабину их командир. Но перед этим он еще оглянется на цыганскую кибитку.
Дождавшись, когда Егор на своей лошади поравняется с кибиткой, Шелоро говорит ему:
– А все-таки они с этим капитаном как две капли.
– Ну и что же? Наш Данилка тоже выплюнутый ветеринар, а ты Христом клянешься, что это мой сын и я уже поверил тебе, – отвечает Егор.
– Вот и дурак ты, Егорушка. Я тебе честная жена, а ты на меня всю жизнь телегу прешь. Не шмыгай за голенищем кнутом, я тоже тебя достать могу. Лучше подвернем к той знакомой скирде, я уже смерзла вся.
– Ну да, а потом ты меня опять двойней вознаградишь.
– Это ты сам все еще как молодой кочет, хоть и на целых двадцать лет старше меня.
– Сворачивай, передохнем. И вправду, куда спешить?
– У нас еще день впереди. Я у генерала Стрепетова неделю выпросила к больной матери в Бессергеневку съездить.
– Скоро у нас на конезаводе всем будет не он, а Татьяна заправлять. Недаром люди брешут, будто она побочная ему.
– Мало ли что люди брешут? Еще, например, могут брехать, что ты сам эту кобылу из Придонского племзавода увел.
– А что же мне было делать, если она в эту пургу как сирота болталась по степи? Но на всякий случай у меня в запасе и конский паспорт. У твоего же ветеринара за литр спирта добыл.
Еще не вечер, но все больше сгущается в степи мгла. Свернув с дороги за лесополосу, кибитка прижимается к большой одинокой скирде.
На окраине поселка конезавода светятся окна у придорожного домика, к которому на ночь, особенно в непогоду, всегда табуном сбиваются машины. Вот так и на этот раз. Тесно, накурено, но весело, слышно побулькивание, звон стаканов. Хозяйка корчмы, Макарьевна, едва успевает доставать из подпола баллоны с вином и, разливая его по стаканам, разносит вокруг стола. Не отказывается и сама выпить со своими клиентами, подсаживаясь к ним то на одном, то на другом конце стола, и даже поддержать не по возрасту молодым дискантом старую казачью песню.
За столом идет горячее обсуждение:
– Как же они теперь доедут до крепости?
– А гости там давно уже ждут.
– Вздумалось им тоже в этой крепости свадьбу справлять.
Сокрушается и хозяйка, Макарьевна:
– Обещали по дороге из церквы за бочонком моего раздорского заехать – и нет их.
Но вот у ворот сигналит машина. Набросив платок, Макарьевна спешит на улицу и возвращается с невестой и женихом. Присутствующие встречают их радостным гулом:
– Оставайтесь с нами, мы здесь не хуже свадьбу сыграем.
– Я знаю, – говорит невеста. – Но туда уже со всей табунной степи коневоды съехались.
– Теперь вам уже и на «уазике» не доехать.
– А мы и не поедем на нем, – говорит жених. – Мы верхом.
Макарьевна в ужасе всплескивает руками:
– Как это верхом? Да ты в своем уме?
Но невеста заступается за своего жениха:
– Это, бабушка, не он решил. Он тоже был против. Это я придумала. – Она загадочно улыбается. – Сейчас переоденусь в боковушке. Не могу же я верхом в фате. Лошади уже у ворот.
И когда она вскоре выходит с другой половины дома уже не в фате и в подвенечном платье, а в джинсах, тулупе и лисьей шапке, все встречают ее еще более радостным гулом:
– Вот это казак.
– Можно атаманом выбирать.
– Досталась Даньке красавица на всю табунную степь.
– Хоть стременную с нами выпейте за вашу счастливую жизнь.
– Стременную выпьем, а погуляем с вами завтра, – соглашается невеста.
– Горько! Горько!
Жених и невеста исполняют требование присутствующих и, сопровождаемые ими, выходят из дома. Макарьевна с бочонком вина под мышкой запевает молодым дискантом:
Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржет, кого-то ждет…
Песню тут же подхватывают другие голоса. Но находятся среди сопровождающих и такие, кто продолжает протестовать:
– Ты, Даня, будешь головой отвечать.
– Отложить нужно свадьбу.
– Нельзя их пускать в такую бурю.
Невеста, уже вставив ногу в стремя, решительно заявляет:
– Нет, ждать больше не будем. Уже год откладываем.
Она лихо вскакивает в седло.
Жених в отличие от нее только с третьей попытки садится на свою лошадь, и присутствующие не упускают возможности подсмеяться над ним:
– Смотри, Даня, не потеряй по пути.
– Ее живо подберут.
– И уж тебе точно не вернут, даже не надейся.
Макарьевна своим высоким молодым голосом продолжает тянуть старую казачью песню:
А у ворот святого храма
Казачка мужа свово ждет…
Уже на выезде из поселка конезавода Татьяна говорит Даниле:
– Если, Даня, не вкруговую по шоссе, а по столбам ЛЭП, можно путь к крепости вдвое сократить.
– Через степь?
В его голосе слышится неуверенность.
– Боишься, волки съедят? – говорит она насмешливо.
– Теперь надо не волков бояться.
– Что это с тобой случилось? Ты на своем самосвале зимой и летом по всей области колесишь, бывает, и в голой степи один ночуешь.
Их лошади, прядая ушами, топчутся рядом на развилке дорог.
– В том-то и дело, что один…
Татьяна решительно перехватывает у него из рук поводья и, свернув с шоссе, тянет его лошадь за своей.
– По моей должности мне и свадебное путешествие положено в седле. – Коротко наклонившись, она треплет свою лошадь за холку. – Весь могучий транспорт сейчас застрял в снегу, а ты, моя хорошая, идешь.
Подчиняясь невесте и выстраивая свою лошадь рядом с ее, жених подшучивает:
– Скоро мы и на цоб-цобе перейдем. Будем опять, как наши предки, быкам хвосты крутить.
Но его шутку невеста воспринимает всерьез:
– Мы сейчас только и знаем – за все на предков валить. – И вновь, коротко наклонившись в седле, она дотрагивается до холки лошади: – А они тебя, красавица, не спешили в колбасу превращать.
– Пока мы доедем до крепости, наши гости и все вино попьют, и всю колбасу поедят, – уныло острит жених.
Невеста весело хохочет, запрокинув голову, и, натянув поводья, посылает ее вперед, отрываясь от жениха.
– Догоняй!
Он смотрит растерянно, как, удаляясь в глубь степи, она растворяется за сеткой густого снега. Яростно хлестнув плетью лошадь, бросается вдогонку.
Лошади скачут в степи, утопая по грудь в высоких сугробах.
В кузове КамАЗа, преодолевающего снегопад, солдат в тельняшке поет под гитару:
Когда же кончится метель,
К тебе дорогу заметая,
И шар земной, как колыбель,
Над черной пропастью качая,
Мне скажут все, надежды нет
И нет любви в наш век жестокий,
Но как же так: я вижу свет,
Из тьмы мерцающий глубокой.
Слушают в кузове солдаты, печально опустив лица. Полуобернув в кабине головы, слушают и водитель со своим спутником:
Когда уже потерян след,
Вдруг вновь вплотную подступает
И даже снег он в вешний цвет
Каким-то чудом превращает…
Не тот ли самый свет, о котором поет под гитару солдат в тельняшке, вплотную приближаясь и прорубив в мятущейся белой мгле окно, озаряет курень Клавдии Пухляковой в казачьем хуторе возле самой излучины Дона? Кроме самой хозяйки, в доме у нее сидит за столом, не выпуская из рук стакан с вином, ее веселая подруга Екатерина Калмыкова.
– Чего ты зря волнуешься? – успокаивает она Клавдию. – Не мог же он знать, когда телеграмму отбивал, что будет такой ураган?
Перед Клавдией тоже стакан с вином, но она не дотрагивается до него.
– Ты все еще думаешь, что твоему Ване восемь лет. В чужой стране не погиб, а в своей не пропадет тем более.
– Теперь, Катя, люди перепутали, где своя, а где чужая земля.
Со стаканом в руке Екатерина Калмыкова встает и подходит к большому фотографическому портрету на стене.
– А вот такие, как твой Андрей, не путали. Нюрка вся в отца пошла. – Она круто поворачивается на каблуках и останавливается перед другим фотографическим портретом на противоположной стене: – А этот тебе Ваня из Афгана прислал? – спрашивает она с невинным выражением.
С лица подруги Клавдия медленно переводит взгляд на портрет.
– Я тебе, Катя, больше не дам вина. Это я из маленькой карточки Будулая увеличила. В кармане его старой гимнастерки на острове нашла.
– Ну да, и специально к приезду Вани вывесила. Еще неизвестно, кто из нас больше пьян. Я бы на твоем месте сняла.
– Опять ты, Катя, за старое.
– Так я же о твоем спокойствии пекусь. Ваня может с минуты на минуту нагрянуть. Хоть на бульдозере, а все равно приползет. – И, поставив на стол стакан с недопитым вином, она накидывает на плечи пуховый платок. – А вина, сколько мне нужно, я и в своем погребе найду. Приходи вместе с сыночком ко мне в гости. Я твои стаканы не буду считать.
И обиженная Екатерина уходит, оставив Клавдию в одиночестве ждать своего сына за накрытым к его приезду столом.
…Между двумя большими фотографическими портретами сидит она за столом в ожидании сына. Как вдруг встает и, сняв один из портретов, долго рассматривает его, потом прячет в комод. Но через какое-то время снова достает и вешает на прежнее место.
Бушующая повсюду метель заметает казачий хутор у Дона до самых верхушек заборов. Заметает она и далекий от Дона поселок с островерхими черепичными крышами в заволжской степи. В большом кирпичном доме открывается наружная дверь, входит весь запорошенный снегом человек.
– Ты сегодня рано, Будулай, – пристально всматриваясь в него, говорит женщина и встает из-за стола. – Сейчас подогрею борщ.
По ее движениям и широко раскрытым глазам постороннему человеку ни за что бы не догадаться, что она слепая. Женщина спокойно и привычно ставит на печку кастрюлю, подкладывает в топку дрова и, пока Будулай раздевается, достает из шкафа посуду, режет хлеб.
– А Мария еще не вернулась? – спрашивает он.
– Она теперь одна акушерка на район.
После того, как она половником наливает ему из кастрюли борща, он сам что-то ищет на полках в шкафу.
– Нет, на нижней полке ищи, – немигающими глазами сопровождая все его движения, подсказывает она.
Достав из шкафа бутылку, он наливает из нее водку.
– Сейчас и на санях можно в степи застрять.
– Не застрянет. Она здесь все дороги знает. И лошади слушаются ее.
Опорожнив стакан, Будулай тут же наливает в него снова.
Не сводя немигающего взгляда с его рук, женщина спрашивает:
– Это ты на фронте научился пить?
– В мастерской как в степи. Ветром насквозь пронизывает.
– Некому было ее ремонтировать. Когда я с Машей добралась сюда, весь поселок был пустой. Дверьми хлопал. У тебя в бутылке уже на донышке, да, Будулай?
Выплеснув в стакан остатки водки, он угрюмо усмехается.
– Вот и поверь после этого, что ты не видишь ничего. От тебя не спрячешься.
Допив водку, Будулай ставит стакан на стол и отодвигает от себя пустую бутылку.
– Я сама не верила, что когда-нибудь привыкну так жить.
– Я виноват перед тобой, Галя.
– Не ты, а война. Твоя похоронка меня уже здесь нашла. После того, как я по радио розыск дала.
– Я должен был лучше искать, Галя. Никакому цыганскому радио не верить. И всех ворожеек гнать от себя. Всю жизнь врут, а люди им за это деньги платят.
– Если бы, Будулай, я не ворожила, нам бы с Машей ни за что не прожить. Вот тогда-то и руки у меня стали как зрячие. Конечно, не всегда сходилось, но женщины, которые потом понаехали сюда, в этот немецкий поселок, мне верили. Кто мучицы, кто яиц, кто картошки принесет. Правда, корову бывшие хозяева этого дома оставили в сарае, и я тоже научилась ее доить. А сеном снабжал военкомат, как вдову погибшего на фронте. Другие люди еще хуже нас жили. Нас с Машей все жалели. На людей я обижаться не могу. Конечно, если бы и ты, и я раньше нашлись, мы бы не так прожили свою жизнь. Но и за это спасибо.
– Рассказывай, Галя.
– Сколько можно рассказывать? Уже обо всем переговорили. И как под бомбежкой прямо на пароме родила. От контузии и страха у меня не только зрение пропало, но и молоко, а тут меня Господь сразу двойней наградил. Ты Зульфию помнишь?
– Еще бы. Помню, как вы с ней за волосы друг дружку таскали.
– Вот-вот. Из-за тебя же. Но тогда, когда уже за Доном она увидела меня, слепую, сразу с двумя младенцами на руках, сама предложила одного ей временно отдать. Она сама только что тогда ребенка родила, и молока у нее было на двоих. Она переправлялась на правый берег свой табор искать, а я уже на левом оказалась. А потом по цыганскому радио дошло сюда, что ее кибитку немецким танком раздавило. Передавали, что там над Доном и цыганская могилка была.
– Я тоже тогда поверил, что это ты в ней лежишь. Не плачь, Галя. Напрасно я заставил тебя рассказывать.
Он вытирает слезы у нее на щеках, едва касаясь их кончиками пальцев. Она перехватывает его руку, гладит, целует ее.
– Постарел ты, Будулай. У тебя совсем другая была кожа.
– Не надо, Галя, плакать.
– Не буду. Хватит, как я наревелась, когда поначалу с Машей почти в пустом поселке жила. Волки днем по улицам ходили, а потом разобрали крышу сарайчика и зарезали корову. Осталась телка двухмесячная – мы ее в ту ночь в дом забрали от мороза. Вот тогда нам с Машей совсем туго пришлось. Все, что было, променяли на муку, мешали ее с сухой лебедой и пекли лепешки. Маша, когда уже подросла, научилась в речке с ребятишками ракушки собирать, и я варила из них суп. Знаешь, жирный получался суп, мне иногда даже теперь хочется его сварить, но ни одной ракушки уже не осталось в речке. Все выгребли.
– А это что за след?
– Подожди, Татьяна. Сквозь пургу совсем ни зги. Жаль, я с собой шахтерскую лампочку не взял. Мне мой дружок с шахты Южная на день рождения подарил. А у фонаря батарея, видно, подмокла. Да, и свежий совсем.
– Волчий?
– Кто же еще такой аккуратной цепкой ходит? Гуськом. Это, Таня, уже не свадебным путешествием пахнет. Эх, хотел же я с собой охотничий обрез прихватить, да забыл.
– Ничего, мы же вдвоем. Только ты на своем тихоходе не отставай.
– И ты своего не гони. А вот и они. Видишь, с двух боков хотят зайти. Справа и слева.
– Но я с собой кое-что всегда вожу. Вот, Даня, возьми одну, а у меня есть другая. Когда одна еду по степи, в правом и левом кармане всегда держу.
– Так это же ракетницы! – восклицает Данила с разочарованием.
Лошади, чувствуя погоню и выламывая в сторону волков головы, скачут рядом почти по грудь в снегу.
– Они, Даня, уже наперерез пошли.
– Ты в своего целься, а я в своего.
– Нет, надо еще ближе подпустить.
– Стреляй, Таня. Ну!!!
Два почти одновременных выстрела гремят залпом. Вспышки озаряют всадников и безумствующих от страха лошадей. Две светящиеся трассы расходятся дугой в разные стороны.
– Возьми, Даня, еще патрон. У меня их в карманах навалом.
– Ага, не понравилось. Давай их еще на дорожку пугнем.
Опять гремят выстрелы. Вспышки озаряют силуэты всадников и их коней, далекие серые призраки убегающих в разные стороны волков. Тоскливый тягучий вой оглашает степь.
– Ушли, Данька, ушли! – возбужденно смеется Татьяна. И ласково треплет за холку лошадь, успокаивая ее. – Теперь, моя хорошая, можно и не спешить. Вот, Даня, что значит донская верховая. Других бы ни за что не удержать.
– А я, по-твоему, не казак?
– Полностью признаю свою вину. Дай я за это поцелую тебя. – Лошади их уже спокойно идут рядом, и они целуются на ходу. – Нет, только один раз. Остальные оставим, когда нам гости будут «горько» кричать.
– Они там уже все выпили и поели без нас.
– Смотри-ка, а мы и не заметили, как кончилась метель.
– Не до того было. Думал, вот-вот выпаду из седла.
– Испугался?
– Не за себя.
– Совсем тихо стало в степи. И, оказывается, не поздно еще. А до Дона уже совсем недалеко.
– Надо бы дать лошадям где-нибудь в затишке остыть. От них как от радиаторов пар идет.
– Да, моя мокрая вся…
От столиков отделяется щеголеватый, в казачьем обмундировании с лампасами человек, и идет к оркестру, доставая на ходу из кармана синего чекменя деньги.
– А какие-нибудь песни, кроме этих рок-н-роллов вы играете?
– Все играем, – отвечает дирижер.
Казак протягивает ему деньги, но дирижер отворачивается от него:
– Сегодня мы за музыку не берем.
Из глубины сцены на край выходит певец тоже с казачьими лампасами на шароварах.
Нет, это неправда, что слава о Доне
Теперь только в песнях одних остается,
По следу копыт на суглинистом склоне
Найдем и отроем казачьи колодцы, –
поет он чистым высоким голосом.
Аплодируют, вставая за столиками съехавшиеся на свадьбу табунщики, зоотехники, агрономы. Среди них и молодцеватый в казачьей форме с лампасами ветеринар Харитон Харитонович, к которому за столик подсел распоряжающийся, судя по всему, в ресторане смуглый человек с седой уже бородой, в добротном черном сюртуке. Белая рубашка выглядывает из-под сюртука. О чем-то беседовали они, пока не прервала их песня:
Достанем воды из подземного чрева,
Напоим коней и в походные фляги
С собой наберем у бессмертного древа,
До самой Москвы запасая отваги.
От гордой станицы до славной столицы
Весь след воскресим, постигая безмерность
Пройденных дорог, и граненые лица
К Кремлю обратим, присягая на верность.
Бурный восторг выражают присутствующие, особенно казаки. Как вдруг сквозь аплодисменты и музыку раздается женский голос:
– Это еще посмотрим, как там будут казаков встречать.
Все разом оборачиваются к двери. Татьяна в заснеженном тулупе стоит рядом со своим женихом на пороге. К ней бросаются из-за столиков:
– Пробилась!
– Вот это настоящая казачка!
– А мы уже без вас решили гулять.
– За стол молодых!
С жениха и невесты снимают шапки, тулупы. Татьяна достает из сумки фату и надевает ее, оставаясь в джинсах. Присутствующие уже требуют:
– Горько! Горько!
Захлопали по всему залу пробки шампанского. В раковине эстрады оркестр переключился на мелодию вальса. Пришла в движение свадьба, начала которой заждались гости. Съехались они – и мужчины, и женщины, и казаки с лампасами, и цыгане в своей пестрой одежде – со всей табунной степи. От столика к столику громко комментируют:
– Напрямки по самой глушине.
– А вдруг те же волки?!
– Они теперь стадами стали бродить по степи.
– Какого коневода могли бы потерять!
– Она и от тигра отобьется!
– Ну, держись, Данька, в седле, – она еще не раз взбрыкнет!
Между цыганками и цыганами за столиками свой разговор:
– Говорят, Данила за эту свадьбу ни копейки не взял.
– Значит, какая-то выгода ему.
– Себе на уме.
– Богатый у нашего Будулая дядька.
– Всю дорогу после войны неизвестно где золотую шерстку стриг, а теперь взял и объявился. Кроме этого ресторана, уже два совхоза скупил.
– А под рестораном колбасный цех.
– Называется югославский модуль.
– Говорят, и к конезаводу подбирается. Хочет донской элитой торговать.
– Ты еще громче ори. Видишь, как он из-за прилавка ушами шьет?
– А Будулай как с одним кнутом явился на конезавод, так и ушел.
Перепархивает со столика на столик разговор, звякают вилки и ножи, звенят бокалы, целуются по настойчивому требованию гостей молодые.
Утихомирилась метель и в заволжской степи. Слепая жена Будулая ушла на другую половину дома и там глухо и с надрывом кашляет, вертясь с бока на бок в кровати. Их дочь ненадолго выходила на крыльцо со своим провожатым и вот уже вернулась в тот момент, когда Будулай достал из шкафа новую бутылку водки. Она молча отбирает у него бутылку и возвращает на место в шкафу.
Будулай не препятствует ей, но говорит:
– Не рано ли дочь начинает командовать отцом?
– Если бы с малых лет могла им покомандовать, то, может быть, и не стала теперь.
– Получается, что задолжал он тебе?
– Получается, что на конезаводе все наговорили на ее отца, что он был самый трезвый цыган.
– И дочь теперь боится за него?
– Нет, радуется, когда он по целым часам сидит над стаканом и молчит.