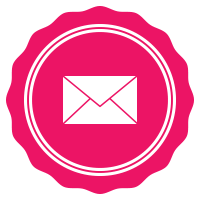– А если он всегда такой неразговорчивый был?
– И на войне?
– В разведку больше по ночам ходят. Не разговоришься.
– А после войны он у своей квартирной хозяйки в хуторе тоже всю дорогу молчал?
Поднимая глаза от пустого стакана, Будулай встречается со взглядом Марии.
– Может быть, будет лучше, если дочь о себе начнет рассказывать отцу?
– Она уже все ему рассказала.
– Все?
– Ну да. Жили, как все. Мама астмой маялась всю жизнь – приступ за приступом. Я из-за этого и в медицинское училище пошла. Чтобы ей всегда первую помощь суметь оказать.
– И до сих пор своей семьей не обзавелась…
Будулай смотрит на дочку вопросительно и с состраданием.
– Не до того было. Учеба, потом работа, да и домой всегда спешила сломя голову. Ну, как с мамой что случилось?
– Спасибо тебе, что сберегла ее.
– Ладно, спать пора. – Маша резко встает из-за стола. – Слышишь, уже вторые петухи кричат и тебе, батя, совсем скоро в кузню идти.
– Постой. – Он берет дочь за руку. – Неразговорчивый я из-за того, что виноватым себя перед вами обеими чувствую. А оправдываться не умею. Ты уж прости меня, дочка.
– Я, наверное, в тебя пошла. – Она наклоняется и быстро целует отца в щеку. – Чего попусту разговаривать? Я вижу, что ты нас любишь. А остальное меня не касается.
Кашляет в соседней комнате Галя. Маша берет кислородную подушку и уходит к ней. Будулай подходит к закрытой двери на другую половину дома и слушает. Мать и дочь о чем-то тихо разговаривают между собой, и кашель вскоре замирает. Но Будулай еще долго стоит у закрытой двери.
Сверкает голубой снег. Целые горы намело поперек дороги. Слева вдруг открывается череда ярко освещенных окон.
– А это что такое? – спрашивает капитан у водителя.
– Это и есть ресторан цыгана Данилы. Терем-теремок. Его еще крепостью называют в наших местах.
– В самом деле как крепость. Ну что ж, сворачивай к ней. Будем эту крепость штурмовать.
С дробным стуком каблуков высыпаются из кузова КамАЗа солдаты. Капитан тут же и приказывает им:
– Но кто-то должен остаться у машины. Время такое, что со всеми вещмешками и музыкой ее могут угнать.
– Не угонят, товарищ капитан, – успокаивает его сержант. – Моджахеды не угоняли, а в своей степи и подавно убережем. Я здесь сам останусь, товарищ капитан.
В придорожном ресторане, на самом деле похожем на ярко освещенную крепость, в разгаре свадьба. Мелькают в окнах силуэты, слышна веселая музыка, раздаются всплески смеха, крики: «Горько! Горько!».
Но когда солдаты во главе со своим командиром оказываются у дверей крепости, два милиционера встречают их с автоматами наперевес:
– Свободных мест нет. Ресторан занят под свадьбу.
Ропот возмущения встречает эти слова:
– Это что еще за жандармерия?
– Вот тебе и встретили дорогих воинов.
– Здравствуй, Родина-матушка!
– А ну-ка с дороги!
Капитан говорит милиционерам:
– Но разве вы не видите, с кем имеете дело?
– Нас наняли, мы и охраняем. Вы должны знать службу, капитан.
Ропот нарастает:
– Так это же телохранители хозяина.
– Продажные души.
– Моя милиция меня бережет.
– Здравствуйте, славные герои бесславной войны, да?
Стражи берут на изготовку автоматы. Безоружные солдаты вплотную идут на них. Капитан тихо командует:
– Разоружить.
Не успевают милиционеры прийти в себя, как афганцы уже успевают и разоружить их, и заломить им назад руки. Но в это время в дверях ресторана вырастает фигура ее владельца в добротном сюртуке и с бабочкой под горлом.
– Что за недоразумение? – спрашивает он и строго пеняет охране: – Для афганцев у нас всегда найдется место. Пропустите их. А вы, капитан, прикажите вернуть им оружие. Они только выполняют свой долг.
– Верните, – приказывает капитан.
Двери в ресторан распахиваются настежь. Яркий свет, ослепив афганцев, заставляет их на минуту замереть на пороге. Волны теплого воздуха встречают, и тихая музыка приветствует их. Хозяин ресторана лично находит для них в глубине зала резервные столики и сам откупоривает первую бутылку шампанского. И вот уже, сбросив с себя армейские бушлаты, солдаты со своим командиром становятся гостями на свадьбе. От столика к столику разносится известие:
– Афганцы! Афганцы вернулись!
Но другие крики заглушают эти слова:
– Горько! Горько!
Встав за своим столом, целуются невеста и жених.
Солдат Усман спрашивает у своего командира, который, встрепенувшись, привстал на стуле:
– Что с вами, товарищ капитан?
Капитан пристально смотрит в ту сторону, где целуются невеста с женихом и медленно опускается на стул.
– Ничего особенного, Усман. Так оно и бывает в жизни. – И капитан, открывая шампанское, стреляет пробкой в потолок. – Давайте будем греться, ребята, в этом тереме-теремке. Споем, станцуем. Ты, Армен, и ты, Усман, сходите к машине за музыкой. На свадьбе полагается как следует погулять. У них здесь свои песни, а мы им сыграем свои.
Не отрываясь, капитан смотрит туда, где под крики «Горько!» невеста подставляет губы своему жениху. Будто бы и не очень охотно отвечает она на его поцелуи, вынужденная подчиняться требованиям гостей. Хозяин ресторана подсаживается к столикам, за которыми в глубине зала устроились солдаты со своим командиром, и говорит капитану:
– Похоже, где-то я видел вас. А вот где – никак припомнить не могу. Вы русский или цыган?
– Я уже привык, что меня не за русского принимают, – отвечает капитан. – Но казаки давно перемешались кровями со всякими другими народами.
– Это так и есть, – соглашается с ним хозяин ресторана старый цыган Данила. – Куда путь держите, капитан?
– Пока на конезавод генерала Стрепетова, а потом по всем конезаводам проедем.
– Это как же понимать? – недоумевает Данила. – Так и будете ездить с места на место? Так только цыгане всю жизнь кочуют.
– Так и будем ездить. А что еще нам остается делать? Побываем дома – и снова в путь.
Между тем по приказу капитана солдаты уже принесли и расставили между столиками футляры с музыкальными инструментами, которые они привезли в кузове КамАЗа вместе со своими вещмешками.
– Это что же у вас – вроде оркестра? – интересуется у капитана хозяин ресторана.
Капитан не слышит его: он так и впивается взглядом в жениха и невесту, подавшись из-за стола всем корпусом. Отвечает невпопад старому Даниле:
– Можем и на этой свадьбе сыграть.
Его слова слышат вокруг другие гости, казаки и цыгане. Тут же комментируют:
– Пускай играют.
– Надоело уже: все время как колотушками по голове бьют.
– И на дворе ветер по крыше колотит, и здесь по голове гремят. Пусть афганы нам свою песню споют.
Хозяин с готовностью соглашается:
– Милости просим героев на сцену.
Он подходит к дирижеру оркестра, и тот со своими музыкантами стушевывается в глубине сцены. Солдаты идут через весь зал по проходу к раковине сцены, с русскими баянами, афганскими сазами, кавказскими зурнами в руках. Но их командир, капитан, остается сидеть в глубине зала, скрытый полутьмой. И вот уже все прислушались к песне, которую заводит под звуки оркестра русоголовый солдат:
По всей земле одна метель
И все дороги заметает,
И шар земной, как колыбель,
Над бездной темною качает.
Мне говорят – дороги нет
В наш век незрячий и жестокий,
Но как же так: я вижу свет,
Мне без него так одиноко.
Слушает песню невеста, слушает ее жених, завороженные ею, молчат все присутствующие на свадьбе казаки и цыгане. Не сводя глаз с невесты и жениха, весь подался вперед капитан. Старый цыган Данила внимательно смотрит на него, то и дело переводя взгляд на жениха и невесту. Солист афганского оркестра продолжает между тем петь:
Он то исчезнет, этот свет,
То вдруг опять внезапно подступает,
И белый снег он в вешний цвет
Каким-то чудом превращает.
Стрый цыган Данила замечает, как побледнело лицо капитана. Вдруг, когда солист заканчивает песню словами о надежде, которая светит ему из тьмы ночи, капитан срывается с места, по длинному проходу между столиками идет через весь зал и останавливается перед невестой и женихом. Едва заметным жестом приказывает своему солдатскому оркестру:
– А теперь наше танго. – И, поворачиваясь с полупоклоном к невесте, спрашивает у жениха: – Невесту не возбраняется на танго пригласить?
Не дождавшись ответа замешкавшегося жениха, невеста в фате и в джинсах поднимается из-за стола.
– Не возбраняется. – Как вдруг она отшатывается от капитана, когда тот уже кладет ей руку на талию: – Это ты?
– Это я, – в тон ей отвечает капитан.
Звучит мелодия жестокого афганского танго. Все смотрят на главного коневода в фате и капитана с орденом Красного Знамени на гимнастерке, которые танцуют под эту мелодию, не сводя друг с друга глаз. Вполголоса, так, что никто другой не может слышать, они разговаривают между собой:
– Откуда? – спрашивает невеста в джинсах.
– С того света, – отвечает капитан.
– Ни одного письма за два года.
– Оттуда не ходит почта.
– Но как-нибудь ты мог передать?
– Из плена не с кем передать.
– Я же тебя еще тогда просила свадьбу сыграть.
– Вот и хорошо, что не сыграли. Ты совсем свободна теперь.
– Где же ты, Ваня, был целых два года?
– Есть на земле такой город Пешавар. Когда-то давно это была Индия. А из Индии, как ты знаешь, в один прекрасный день всех цыган прогнали по свету бродить.
– И чем ты теперь занимаешься, Ваня?
– Тоже по свету брожу. Наши песни вожу со своими солдатами.
– Хорошие, Ваня, песни.
– Да, видно, и песням теперь верить нельзя.
– А кому же можно верить, Ваня?
– Это ты должна лучше знать. Или у своего жениха спроси. Это правда, что он племянник хозяина этого терема?
– Ты, Ваня, не трогай моего жениха. Он ни в чем не виноват. Хороший он парень.
– Конечно, ты только за хорошего могла согласиться пойти. Здесь только хорошие оставались, а все плохие остались там.
Звучит мелодия жестокого танго. Примолкли гости. Слезы катятся у некоторых по щекам. Им ничего не слышно из тех слов, которыми обмениваются невеста-коневод и капитан, но они что-то чувствуют. Внезапно жених вскакивает из-за стола и останавливает танец своей невесты с капитаном.
– Хватит, Татьяна. Пусть этот капитан уступит мою невесту мне.
Обрывается мелодия жестокого танго и во всеобщей тишине четко разносятся слова капитана:
– Уступаю. Племяннику хозяина этого ресторана все должны уступать.
Невеста протестует:
– Ваня, не надо. Он ни в чем не виноват.
Капитан соглашается:
– Да, да, во всем виноват только я и они. – Он указывает на солдат, которые со своими инструментами спускаются со сцены и идут по проходу к выходу. – И те, которые остались там. Пойдемте, герои позорной войны. Нас здесь не ждали. Да и метель уже улеглась.
Во главе со своим командиром солдаты проходят сквозь ряды столиков к выходу и за ними закрывается дверь. Невеста в фате и в джинсах бросается вслед.
– Ваня! Подожди! Я тебе должна сказать…
Жених, догоняя ее уже у самой двери, удерживает:
– Успокойся, Татьяна.
Ему на помощь приходит хозяин ресторана, старый цыган Данила, который громко объявляет:
– Свадьба продолжается. Музыканты, займите свои места. Жених и невеста, вернитесь за свой стол.
Вдруг невеста решительно и громко заявляет:
– Нет! Свадьба откладывается. Не спешите, дядя Данила. Я знаю, почему вы так спешите. Конечно, ваш племянник ни в чем не виноват. Но он ждал меня целый год. И еще согласен подождать. Правда, Данила? Простите, дорогие гости, свадьба закрывается.
Всеобщий шум, ропот.
С улицы доносится рев мощного КамАЗа. Перед ним опять расстилается зимняя дорога, сверкает голубизной снег. Но вьюга улеглась, и в степи стало совсем тихо. Только как эхо звучит мелодия песни: "По всей земле одна метель…"
– Здесь притормози, – говорит водителю КамАЗа капитан. – А потом без остановки на конезавод.
– Давайте вас до дома доставлю, – предлагает водитель, останавливаясь возле поворота в хутор.
– Наверх машина сейчас не поднимется, скользко, – говорит капитан. – Я тут мигом спущусь. Ну, смотри, довези ребят в целости. Пусть меняются в кабине. Я их потом догоню.
Выпрыгнув из кабины, капитан заглядывает на прощание под брезент в кузов. Там, тесно прижавшись друг к другу, спят солдаты. Голова кого-то лежит на плече у товарища, другой откинулся на скамье навзничь, третий уткнулся лицом в колени. Спят все солдаты. Капитан махнул всем сразу на прощание рукой и стал спускаться от шляха с чемоданчиком под гору. КамАЗ взрокотал, и вот уже его красные огоньки замерцали, удаляясь по шляху между лесополосами.
Всюду улеглась метель. К утру снег сверкает под солнцем до рези в глазах. Еще совсем рано, но над кузницей уже курится дым. И, несмотря на мороз, дверь распахнута настежь. Будулай и его подручный молотобоец Иван в отблесках пламени суетятся вокруг наковальни и горна. С самого утра дышит кузня огнем и звучит всплесками металла под большим и под малым молотами. Будулай с подручным переговариваются между собой:
– Нет, Иван, это только мать у меня цыганка, а отец русский. Так мне бабушка говорила. Хотя он черноволосый был и кочевал всю жизнь вместе с табором. Фамилия его была Романов. Но сам себя он называл цыганом. Один раз я слышал, как вожак назвал его русским цыганом.
– Русский цыган? – удивляется его подручный.
– Меня так звали в нашем кавкорпусе. У цыган каких только кровей не намешано. С тех пор, как их прогнали из Индии, они кочуют по всей земле. Берут себе в жены русских. Да, да, Иван, так тоже бывает. Да и русские на цыганках женятся. И чистокровные цыгане часто берут себе русские фамилии. Вот и получается – русский цыган. Ты сам знаешь, Иван, русские немцы тоже есть.
– У меня мать русская. Ее из-за этого и не стали выселять. А отец немец. А что такое – казак?
– Казаки тоже разные бывают. Среди них и русские попадаются, и татары, и калмыки. Все переварились в одном котле. В нашем Донском кавкорпусе казаками всех называли.
– А вам на фронте приходилось немцев убивать?
– Я в разведке служил. На своей спине приносил в штаб языков, иногда приходилось и кинжал в ход пускать. Но пленных не трогал. Тот, кто попал в плен, уже не враг.
– А другие трогали?
– Бывало, Иван. Но то сгоряча. Если заставали факельщиков, когда они перед отступлением запирали в хатах и поджигали людей. Стариков, женщин, детей.
– За это надо было на месте убивать, – между ударами молота говорит Иван. – Отец пишет, что когда он отсеется в Казахстане весной, вернется, и нам тогда с Машей можно будет свадьбу сыграть. Вот как получается: вчера русские и немцы были врагами, а сегодня уже родня.
– Нет, Иван, русские и немцы никогда не были врагами. Им нечего было делить между собой. Ты и сам знаешь, кто их друг на друга натравил.
С порога мужской голос спрашивает:
– Будулая Романова можно повидать?
Будулай подходит к двери. На пороге стоит мужчина в тулупе и в серой шапке, заломленной набекрень. Из-под тулупа выглядывают красные лампасы.
– А кому он понадобился?
Мы всем казакам и кто в Донском корпусе служил перепись ведем.
Будулай улыбается:
– Мне уже поздно в казаках ходить.
– Будем и ветеранов корпуса на казачий круг собирать.
– Зачем?
– Пора атамана выбирать. Ветераны, которые с вами служили в корпусе, уже называли и вас.
– Нет. – Будулай качает головой. – Атаманом надо молодого выбирать. Мне уже поздно в начальниках ходить.
– А молотом махать еще не поздно.
– Для меня это привычное дело.
– Но все-таки мы приглашаем вас на казачий круг, Будулай Романов.
И, откозырнув, казак исчезает так же быстро, как он появился. Будулай возвращается к наковальне и говорит своему подручному:
– Вот тебе и ответ, Иван, кто такие казаки. Вчера они и сами не вспоминали, кто они, а сегодня жизнь заставила их вспомнить.
– Как заставила? – недоумевает подручный.
– Как тебе объяснить… – Будулай долго выковывает молотком длинный железный шкворень, зажатый в кузнечных клещах. – Я же говорил тебе, что среди казаков всякие нации есть. Казаки это такие люди, которые всегда на границах службу несли. Россию сторожили. Теперь получилось, что опять понадобились они. Вот и при Сталине долго терзали казаков, а когда Гитлер напал на нас, сам же Сталин и вспомнил о них. По его приказу и казачьи корпуса стали создаваться.
– Так то была война.
– Тогда было легче, Иван. Все знали, что воевать нужно с Гитлером, а теперь никто не знает, с кем. Все нации друг на друга натравили и хотят разломать страну на куски. Вот и забеспокоились казаки, чтобы ее неделимой оставить. Это я так думаю, Иван. А кто-нибудь, может, и по-другому. Жизнь покажет. Среди казаков тоже разные люди есть. Когда-то их на белых и красных делили. Теперь вот опять делят на своих и чужих. А по-моему ни своих, ни чужих не должно быть. Или ты не согласен, Иван?
Его подручный немедленно отвечает:
– Вы еще спрашиваете. Плохо всем – и старым, и молодым, когда вражда между людьми. Если казаки против вражды, то, значит, надо вам на атамана соглашаться. Вы все-таки на войне были. Кого же они тогда послушают, как не вас? Без таких, как вы, они могут расколоться и дров наломать.
– Да, Иван, когда раскол между людьми, хорошего ждать не приходится.
– А у вас фронтовая форма с лампасами сохранилась?
– Нет, Иван. Отвык я уже от лампасов.
– Между прочим, очень красивая форма. Я когда ездил в Волгоград выпускные экзамены в институте сдавать, видел, как казаки ехали на конях в своей форме.
– Понравилось тебе?
– Марии тоже понравилось.
– Вот и записывайся, Иван, в казаки. Будешь на свадьбе с лампасами.
Иван смеется:
– Немецкий казак?
– Смотря как считать. Если по матери, то русский, а по отцу – немецкий. Смотря как сам себя считаешь.
– А вы как считаете?
– Я считаю, что из тебя получится цыган. У меня когда-то тоже молотобоец был Иван. Ты русый, а он совсем черный, как грач, хоть и русский. Но с металлом умел разговаривать как настоящий цыган.
Клавдия Пухлякова одна в доме. Что-то вяжет, надев очки. Большая серая собака спит в углу возле нее. Вдруг она, вздрогнув, поднимает уши, и волчий загривок ее начинает шевелиться. Скрипят ступеньки под торопливыми шагами. Дозор с резвостью молодого бросается к двери и останавливает на пороге вошедшего человека, положив ему лапы на плечи.
– Не забыл, Дозор? – не то смеющимся, не то рыдающим голосом спрашивает тот.
Вскакивает из-за стола Клавдия, роняет на пол вязание.
– Сыночек!
Иван Пухляков, капитан, обнимает ее за плечи.
– Мама! Мамочка моя!
Она поднимает к нему лицо.
– Что же ты плачешь, Ваня?
– А ты?
– Матери всегда плачут, когда провожают и встречают детей. Ваня, ты уже вернулся? Ты здесь?!
– Здесь я, мама, здесь. – Иван Пухляков гладит мать по волосам и слезы текут по его щекам. – Но она не дождалась меня, мама.
– Я знаю, Ваня. Я ездила к ней на конезавод. Она думала, что ты ее забыл.
– Лучше бы мне, мама, не возвращаться.
– Как тебе, Ваня, не стыдно. У меня, кроме тебя, никого не осталось.
– Ты, мама, всю жизнь умела ждать.
– Только все это было напрасно, Ваня.
Теперь уже он успокаивает мать, вытирает на ее щеках слезы.
– Теперь ты уже не одна. Я больше никуда не поеду. Отвоевался я, мама.
– Живой ты, живой пришел. Летом всей семьей соберемся. Нюра приедет с мужем и с детками. Сынок у нее недавно родился, а дочушка уже в восьмом классе учится.
– Как она назвала его, мама?
– Как отца. – Клавдия запнулась только на какую-то долю секунды, взглядывая на большой увеличенный портрет на стене. – Андрей Андреевич будет.
Взглядывает на портрет и Ваня.
– Нюрка вся вылитая в отца.
– Да. Она в их родню пошла.
Ваня переводит взгляд на противоположную стену, на которой висит другой увеличенный портрет и подходит ближе, не спуская с него глаз.
– Странно, мама: какая-то цыганка в степи меня Будулаем назвала. ...Он тебе не пишет?
Клавдия качает отрицательно головой:
– А что он может написать?
– Сказано – цыган, – говорит Ваня и круто отворачивается от портрета Будулая на стене.
Между тем из-под стога ячменной соломы, к которому прижалась кибитка, из теплой глубокой ямы, вырытой в середине стога, вылезает женщина с соломинками в волосах. Светает в степи. Большим гребнем с изумрудными камешками она расчесывает волосы. Розовое солнце, встающее над степью, поблескивает камешками на гребне. Уткнувшись мордами в стог, жуют ячменную солому лошади. Заглядывая под стог в яму, Шелоро окликает мужа:
– Егор! Егорушка!.
В ответ молчание.
Тогда она, пошарив в кармане кофты, достает оттуда игрушечную детскую свистульку и длинной милицейской трелью оглашает степь. Мгновенно из ямы под стогом выскакивает взъерошенный лохматый Егор и бросается к лошадям. Он уже стремительно отвязал рыжую кобылу и вскочил на нее, когда хохот Шелоро доносится до его ушей:
– Правильно, Егорушка, скорей беги, бросай детишек и жену. Милиция на хвосте!
Опомнившись, Егор взмахивает длинным кнутом.
– Стерва, твою мать! Я тебе покажу милицию!
Взвизгнув, Шелоро уклоняется от кнута и, отбежав за кибитку, выглядывает из-за нее.
– А под стогом ты меня ласточкой называл.
– Дура! Опять мне двойню подбросишь. Каждый раз после этого по двойне катаешь.
Он уже слез с лошади и засунул кнут за голенище сапога.
– Нет, Егорушка, это не я виновата, а ты. Мне уже давно бы не надо рожать, а у тебя все еще кровь играет. Оно само так получается. Должно быть, потому, что ячменная солома очень духовитая и теплая – вон и лошади ее не хуже степового сена едят. От того и двойни получаются.
– Ладно. Давай-ка будем возвращаться на конезавод. Не то генерал Стрепетов возьмет и отдаст кому-нибудь наш коттедж.
Шелоро возмущается:
– Не имеет права. Я – мать-героиня. – Она распахивает кофту и похлопывает ладонью по медалям на груди. – Да и внуков у меня уже, считай, семь: Настя вот-вот двойню родит. Не посмеет твой генерал.
– Откуда ты знаешь, что двойню?
– У меня в первенцах тоже двойня была. А Настя вся в меня.
– Детишки уже за нами соскучились. Продленка не мать родная.
– У них в школе директорша добренькая. У самой четверо своих. Наберет в магазине конфет и печенья и раздает всем детишкам. И своим, и чужим. И книжки им всякие читает. Она же и продленкой заведует. Детки у нее завсегда сытые. Еще и с собой пирожков или булочек даст. Ну а козу они сами подоят. Не маленькие уже.
– Ну да, не маленькие. – Егор запрягает лошадей и садится в седло новой рыжей кобылы. – А ты у меня не мать, а кукушка настоящая. Подбросила своих детей чужим людям – и радуешься.
– Радуюсь, потому что ты любишь меня, Егорушка. Столько лет вместе живем, а ты все как молодой жеребец меня обхаживаешь. – Она устраивается на передке кибитки, натягивает вожжи. – После такой ночи я себя снова молодой почувствовала. Спасибо тебе, Егорушка.
– Надо будет запомнить эту скирду, – говорит Егор слегка смущенно. – Сколько их уже было, а все как в первый раз.
– Запомни, Егорушка.
Шелоро снова оглашает степь трелью. Рыжая кобыла под Егором дергается вперед и он едва успевает заломить ей поводьями шею. Встает над степью солнце. Егор прокладывает по заснеженной дороге копытный след. Шелоро погоняет лошадей. После мощного КамАЗа кибитке легче двигаться по глянцевито сверкающей колее. И вот уже с уст цыганки срывается песня. Ослепительно сверкает зимняя утренняя степь. Красные ягоды шиповника, задержавшиеся на кустах, вспыхивают под солнцем, как огоньки. По обочинам дороги расхаживают грачи и вороны, выклевывая что-то на стоянках, где заночевавшие шоферá жгли костры и согревались русской водкой у огня. Уехавший вперед кибитки на лошади Егор останавливается, поджидая Шелоро. Спрыгнув с седла, привязывает лошадь за поводья кибитки и взбирается на сиденье рядом с Шелоро.
– Там у нас больше нечего пожевать? – спрашивает он заискивающе.
– Кроме этого ливера ничего нет, – доставая из сумки под ногами кружок колбасы и краюху хлеба, говорит Шелоро.
- Под этот бы ливер…
Егор ударяет щелчком по горлу.
Когда Шелоро запускает к себе в карман руку и достает бутылку, глаза у него становятся круглыми:
– Откуда?!
– Пока ты со своей кобылой милицию развлекал, я у них в будке нашла.
– Ласточка ты моя. – Егор отпивает прямо из горлышка бутылки и закусывает водку ливерной колбасой. – Что бы я делал без тебя?.. – Он вдруг перестает жевать. – А детишкам осталось что-нибудь?
– Ну, а ты как думал? Ты бы лучше спросил у своей жены, оставила ли она для себя.
Он немедленно протягивает ей колбасу с хлебом со словами:
– Правильно, Шелоро. Учи своего мужа, воспитывай. – Он протягивает ей и бутылку с водкой. – Отхлебни и ты глоток. Замерзла?
– Ты что же хочешь, чтобы из этой двойни у нас два алкоголика вышли? А как ты думаешь, Егор, почему и казаки и цыгане со всей донской степи съехались на наш конезавод? – неожиданно спрашивает она.
– От тоски, – незамедлительно отвечает Егор, продолжая расправляться с ливерной колбасой.
– Какой такой тоски?
– По коням. Казаков тоже лишили коней. Раньше они на службу уходили на своих. И цыганам запретили кочевать. А как же им еще коней держать и зачем? У казаков и цыган вся жизнь проходила в дороге. Вспомни, как они в своих песнях поют: «Ехали казаки со службы домой…». Это у казаков. А у наших цыган…
Опережая его, Шелоро подхватывает:
– «Ехали цыгане с ярмарки домой…».
– И мы, и они всю дорогу были в седлах и на колесах. Как и цыган, казаков тоже притесняли. Только во время войны они опять вырвались вперед. Вспомнили о них. Ну а цыганам тоже пришлось в коннице служить. Как, например, мне. Вот почему и на конезаводы потянулись.
– А вдруг, Егор, правда, что и до конезаводов доберутся? Колхозам и совхозам уже приходит конец. Настрадались, говорят, и хватит.
– Надо было раньше, чтобы не страдали. А когда уже настрадались, зачем же теперь ломать? Так можно и всех племенных конематок с жеребцами на мясо пустить. Говорят, здесь какой-то с деньгами цыган уже скупает коней. С какой-то германской не то фирмой, не то фермой хочет в табунной степи свои порядки завести.
– Неужто и наш конезавод продадут? – испуганно спрашивает Шелоро.
– Пока начальником генерал Стрепетов, хоть он совсем и старый уже, не продадут. Ему предлагали уже вместо коней овец на табунных лугах пасти, так он всех министров в Москве перехитрил.
– Это когда мы цыганские и казачьи концерты для них давали. Меня тогда один министр из Москвы целовал при всех.
– Ради этого целуйся с кем хочешь, – великодушно разрешает Егор.
– А правда, говорило цыганское радио, будто это хозяин того самого ресторана, где теперь гуляют свою свадьбу Татьяна с Данилкой? Будто это Будулаев родной дядька и зовут его Данилой?
– Не может быть, чтобы у Будулая такой дядька был. Правда, какой-то Данила еще до войны с их табором кочевал, но теперь он уже совсем старый должен быть.
– Если при больших деньгах, то и старость нипочем.
– Вот, должно быть, погуляли сегодня ночью на свадьбе и цыгане и казаки. – Егор завистливо вздыхает. – Со всей степи съехались.
– А кто тебе мешал тоже погулять?
– Да кто же, как будто не знаешь. Эта самая рыжая кобыла – я вокруг Придонского табуна почти неделю кружил. Пока ты с детишками в Бессергеневке у матери гостевала.
– Вернемся домой, больше никуда не поеду, Егор. Хоть не зови. Да и деток хватит на чужих людей бросать.
– Так я тебе и поверил. – Егор ухмыляется. – Не успеют два-три месяца пройти, как ты уже раскидываешь карты на подоконнике: «Нам, Егор, опять дорога предстоит. Иди, отпрашивайся к генералу». Это тебя все время кровя кочевать тянут.
– Да, Егор, тянут. Нам без этого никак нельзя. Пусть какие-нибудь домашние курицы и петухи по своим куткам сидят, а мы люди вольные. Вот хоть и холодно, и голодно, а проехались с тобой по степи – и на душе лучше стало.
– Не все то лучше, что лучше. Двойнятам на этот год в школу идти, а они еще буквы не знают. Потому как ты их все время за собой таскаешь.
– В школе и научат. – Шелоро оглядывается в глубь кибитки, где спят ребятишки, черные и русоголовые. – Ишь, намаялись как. Хорошо, я догадалась бабушкину перину с собой взять. А ты еще смеялся надо мной, Егорушка: дождь, дескать, на дворе и вообще уже скворцы прилетели, а ты все перину за собой таскаешь.
– Ну и смеялся, так что же? Не плакать же мне из-за того, что эта последняя двойня не моя, – неожиданно заявляет Егор.
– А чья же?
– Как приедем, сразу уволишься из ветлечебницы. Слыхала? И чтобы никаких отговорок.
– Ну а где же мне тогда овса для твоей рыжей кобылы брать? Сам, что ли, пахать и сеять будешь? Надо бы мне обидеться на тебя, Егор, кабы ты был не такой дурной. Ко всем штанам ревнуешь. Вырастет эта двойня, потемнеет, и ты опять будешь в дураках ходить. Еще будешь хвалиться своей женой, что она самая верная цыганка из всех.
Егор протягивает руку и дотрагивается до колена Шелоро:
– Ласточка ты моя. Лучше тебя на всем свете нет.
Вдруг врывается в дом Клавдии Пухляковой, которая угощает с дороги сына, Екатерина Калмыкова.
– Не состоялась! Разъехались! – кричит она с порога. Увидев Ваню, бросается к нему. – Приехал? А никаких следов от машины не было у ворот. Здесь будем целоваться или потом ко мне в гости зайдешь?
– Здесь, здесь.
Ваня целует ее в обе щеки.
Клавдия перебивает их:
– Что не состоялось?
– Да свадьба. Я же говорила тебе: не будет ее. Не пара они. Ко мне заезжала машина с Сальского конезавода. Отогрелись и дальше побежали. Говорят, отказалась невеста от свадьбы. Пусть, говорит, жених еще с год походит за мной. А сейчас по горе от этого терема целая колонна машин двинулась. Что ты, Ваня, на это скажешь? Как будто это совсем не касается тебя.
– А почему это должно касаться меня? – сурово спрашивает Ваня.
Мать пристально смотрит на него, побледневшего, изменившегося в лице. Екатерина Калмыкова искренне удивляется:
– Тебя там в Афгане не контузило? Может, как Будулай, память потерял?
– Ничего я там не терял. И здесь пока не нашел.
Мать до слез в глазах смотрит на него. Но Екатерине некогда это замечать.
– Недаром говорили, что эта Татьяна, как ведьма на помеле. Не знает никто, что она может вытворить через пять минут. Ждала, ждала Ваню – как вдруг решила выскочить за Даньку. Созвала гостей на свадьбу и опять номер выкинула. Слава богу, Ваня, что ты там на войне от нее отвык.
– А кто это вам сказал, что я отвык?
– Почему же ты цельных два года о себе вестей не подавал?
– Ваш отец где пропал?
– На войне.
– Знаю, что на войне. Но где?
– В плену. Как окружили их под Харьковом, так и канул. Как в воду с яра.
– Ну вот. Окружали не только немцы.
– Неужто, Ваня, ты у душманов в плену побывал? Целых два года, что ли? – говорит Екатерина с испугом.
Ваня молча надевает армейский бушлат.
– Ты куда? – спрашивает мать.
– Пойду покурю.
Опять вмешивается Екатерина:
– Ты же не курил никогда.
– Начинал и спалил скирду. А мать меня вожжами отходила. Но там меня некому было пороть.
И Ваня выходит на крыльцо, прикрыв за собой дверь. Долго светится огонек его сигареты, вьется над ним табачный дым. Вернулся сын с афганской войны домой, к родной матери…
Совсем рано утром во дворе дома, где теперь живут Будулай с Галей и с дочерью, стучит молоток, визжит пила. Перед тем как уйти в кузню, Будулай занимается ремонтом забора, лезет по лестнице на крышу, чтобы прибить оторванный ветром лист шифера. Он видит сверху, что Галя идет через весь двор к сараю доить корову. Она спустилась со ступенек с чистым ведром, как зрячая, едва коснувшись рукой перильцев крыльца, и идет к сараю, спокойно и уверенно шагая, словно человек, которому здесь знакомо с детства все – каждая ямочка на тропинке, каждый бугорок. Со стороны вряд ли кто усомнится, что этой женщине дано порадоваться и красотой ясного светлого утра, и тому, что во дворе в руке ее мужа весело стучит молоток, и что вообще все радует ее зрение и слух.
Но Будулай, поспешив спуститься с лестницы, все-таки перехватывает у нее из рук ведро.
– Я же тебе говорил, Галя, что еще на фронте научился доить корову. Когда мы отступали, хозяева побросали свою скотину, а солдаты ловили коров и доили. А в Румынии и в Венгрии сами добывали себе на брошенных усадьбах молоко.
Галя смеется и поднимает к нему лицо с глазами, о которых никто бы не сказал, что они незрячие.
– Ты все еще думаешь, что я могу споткнуться или на что-нибудь наткнуться, упасть, – говорит она, крепко уцепившись за дужку ведра. – А я за это время и в доме, и во дворе научилась ходить, как будто все вижу вокруг себя. Я и тебя, Будулай, сейчас вижу. – Она смотрит на него своими незрячими глазами и ласково и мягко касается кончиками пальцев его лица. – Я сперва совсем не узнавала тебя, а теперь уже опять начинаю узнавать. Вот так и женщинам ворожила по морщинкам на руках, все-все угадывала, и они мне за это муки приносили, яиц, а иногда и какую-нибудь одежонку для Машеньки. – Она, продолжая ощупывать его лицо, вздыхает. – Да, мы с тобой совсем постарели, Будулай. Наверное, скоро бабушкой и дедушкой будем. Ты что-нибудь заметил у Маши?
– Не беспокойся, Галя. Иван надежный парень, хоть и моложе нашей дочери. Но они любят друг друга – и это сгладит разницу.
– Ты думаешь? Да, Мария засиделась. Все из-за меня. Был тут один. Цветы ей дарил, конфеты дорогие. Завербовался на север и Марию с собой звал. Да куда же она от меня? – Галя вздыхает. – Хорошая у нас с тобой дочка выросла, Будулай. А вот сынок… – Она снова вздыхает. – Сынка у нас Господь отнял, царство ему небесное. Нет, ведро я тебе не отдам, – говорит она уже совсем другим тоном. – Еще не хватало, чтобы ты дома корову доил, а потом шел в кузню молотком стучать. Не твое это дело. Твое дело взять кружку и подождать, пока я налью тебе парного молока.
И вот уже Будулай опять в кузне, у наковальни, освещенной пламенем. Его будущий зять, Иван, за молотобойца. Опять между ними идет тихий неспешный разговор.
– Не могу ответить на твой вопрос, Иван, потому как сам не знаю. Что-то я совсем отбился от берега. Я уже одному моему помощнику, только не русому, а черному, как грач, обещал, что больше никуда не тронусь с места и не сдержал своего слова. Вон меня куда занесло.
– Места у нас здесь хорошие – степь. Можно хоть коней, хоть овец разводить, – говорит ему будущий зять.
– А жить мы где будем? Вернется прежний хозяин, и надо будет ему этот дом отдать. Конечно, подремонтировать его придется к тому времени. А нам так или иначе нужно уезжать.
– Зачем же уезжать? У нас дом большой, будем все вместе жить.
– Это с кем же вы собираетесь жить? – вдруг с порога раздается голос. – Маша в полушубке, раскрасневшаяся от мороза, стоит на пороге настежь распахнутой двери. В проем двери видны запряженные парой лошадей сани. – Еду к Красный Кут роды принимать. Мать передала вам по жареному цыпленку. Ешьте, пока не отощали совсем.
Она отдает Ивану сумочку с едой.
– Тебе, Маша, уже пора перестать ездить, – говорит Иван. – Проси себе в районе подмену и уходи в отпуск.
– Боишься рожу прямо на дороге и принесу тебе в подоле? – Мария смеется. – А что, может и так случиться. Я же цыганка чистокровная.
Впервые весело смеется и Будулай:
– Да вдруг сразу двойню. Мальчика и девочку.
Теперь смеются все втроем. На прощание Маша говорит:
– На одной коленке будешь, дедушка, маленького Будулайчика качать, а на другой Галочку.
Еще через минуту дробный цокот копыт раздается у кузницы и удаляется вместе с шелестом полозьев по снегу. Провожающий с порога кузницы Марию ее будущий муж, возвращается к наковальне и видит, что Будулай, отвернувшись в угол кузницы, судорожно вздрагивает спиной.
– Надо нам выйти на воздух. Этот уголь совсем никуда – отравиться можно.
Будулай, не поворачиваясь к нему, кашляет и сквозь кашель с перерывом отвечает:
– Да нет, это я сам виноват. Когда-то наглотался другого дыма еще на войне. До сих пор выходит.
Когда он поворачивается к будущему зятю лицом, тот видит, что оно совсем бледное и глаза как-то странно блестят…
Клавдия Пухлякова снимает с вешалки полушубок. Закутывается в теплый платок, надевает на плечо двустволку и зовет старую собаку, которая дремлет на подстилке в углу:
– Айда, Дозор.
Но Ваня решительно заступает ей путь:
– Я тебя больше не пущу. Не могли никого другого найти на острове сторожевать.
– Меня, Ваня, никто не заставлял.
– За это он, конечно, каждый месяц тебе по почте благодарность шлет, – говорит Ваня иронично.
– У каждого своя жизнь, Ваня. Давай больше об этом не говорить.
– А ты в гости меня возьмешь? – спрашивает Ваня уже примирительно.
– В гости возьму.
Обледеневший лес на острове сверкает под лучами солнца, которое уже высунулось из-за больших деревьев. Клавдия с Ваней по льду переходят через рукав Дона на остров. Серая собака отстает от них, но идет по следу, иногда останавливаясь, торчмя поставив уши и взлаивая.
Клавдия говорит сыну:
– Я своим хуторским браконьерам поразбивала из ружья фары и они забыли сюда дорогу.
– А неместные наведываются?
– Их еще Будулай отучил от этого дела.
Дорога, протоптанная в снегу, приводит к блиндажу. Ваня входит туда за матерью, осматривается и с удовлетворением говорит:
– У тебя здесь все побелено и прибрано.
Но Клавдия возражает:
– Я ничего не меняла. Как было, так и осталось.
– Нет, мама, этих портретов тут раньше не было. Я помню. Я хорошо помню.
– Знаешь, с ними как-то веселей, – виновато говорит Клавдия. – Конечно, я с Дозором разговариваю, когда обхожу остров, но больше ни одной души.
Ваня медленно переводит взгляд с одного портрета на другой.
– У тебя тогда в кукурузе кто раньше появился? Нюра или я?
– Нюра первая родилась, – говорит Клавдия, помедлив, но не пряча глаз от взгляда сына.
– И никого с тобой не было, да?
– Одна старуха Лущилиха. Но она давно умерла.
Ваня внимательно разглядывает портреты на стенах блиндажа.
– Какого это было числа? – спрашивает он неожиданно.
– У тебя в метрике все записано.
– И неужели там оказались только вы двое?
– Я уже потом узнала, что немецкий танк наехал на цыганскую кибитку и всех, кто там был, раздавил.
– А кто тогда на кукурузном поле сторожевал?
– Дедушка Муравель. Он теперь уже совсем старый. Заговариваться стал. Да и пора уже. На двух войнах побывал и вина не одну бочку выпил.
– Он все там же под кручей живет?
– С бабушкой Махорой вдвоем. Это уже у него четвертая жена. Всех остальных схоронил. Несмотря на то, что с протезом, выносливый оказался старик.
Вдруг Дозор взлаивает, выскакивая из блиндажа. Ваня хватает ружье и выходит за ним следом. Клавдия вдогонку кричит:
– Не стреляй, Ваня!
Она в тревоге выскакивает из блиндажа.
– Ты, мама, все еще думаешь, что я совсем глупый у тебя, – говорит он сердито. – А я там ротой командовал. И зря не стрелял. Разве можно зря стрелять?
Клавдия вдруг говорит:
– Расскажи, Ваня, как ты в плен попал и что там сделали с тобой. Откуда у тебя такие шрамы на спине? Я видела, когда ты во дворе умывался. В другой раз в доме умывайся – нельзя раздетому на морозе стоять.
– Не бойся, мама, после афганской жары никакие морозы меня уже не возьмут. Твой сын совсем уже вырос, даже постареть успел, и больше не собирается воевать.
– Но я все равно боюсь, Ваня. Уже совсем близко воюют. У нас казаки стали с ружьями ходить. Женщине вечером из дому опасно выйти одной.
– Ну вот, а ты собираешься до конца жизни с этой старой двустволкой остров сторожить. Не пущу я тебя больше, мама, сюда. Съезжу в станицу в правление и попрошу, чтобы назначили комендантом острова меня. Сам буду столетние дубы охранять.
– Ни тебе, Ваня, ни кому-нибудь другому я этот остров не отдам, – твердо говорит Клавдия.
– Хорошо, мама, можешь не отдавать, – неожиданно соглашается Ваня. – А у тебя в сумке есть что-нибудь для меня? Давай вместе позавтракаем. Вдвоем. Нет, вчетвером. У тебя здесь и чисто, и тепло, как дома. А когда я его здесь нашел, холодно было. Он так и не узнал меня. Как будто в первый раз увидел. Ты не знаешь, мама, где ему могли так память отшибить?
– Не знаю. Сам он об этом никогда не говорил, а спросить я не решилась. Ешь, Ваня. – Из большой сумки она выкладывает на дощатый столик вареные яйца, печеную картошку, луковицу, пирожки. – Он пирожки с картошкой и с капустой больше всего любил. – Оборачиваясь к двери, она бросает один пирожок помахивающей хвостом собаке: – Лови, Дозор.
– Ну что ж, давай любимые этим драгоценным цыганом пирожки есть.
У Вани обиженное лицо.
– Не надо так говорить, Ваня.
– А как я сказал?
– Он тебе не этот цыган…
На конезаводе возле корчмы Макарьевны нет ни одной машины, а только подседланный привязанный к стволу акации конь. Макарьевна выговаривает главному коневоду Татьяне, которая живет у нее на второй половине дома:
– Ты, похоже, совсем осатанела, Татьяна. Где же это видано теперь одной по степи на лошади скакать?
Татьяна, натягивая джинсы и подпоясываясь широким ремнем, отвечает:
– А что же мне адъютанта с собой брать? Он и так уже сколько лет за мной, как иголка за ниткой. И на машине сейчас по такому снегу не проехать. Мне на всех отделениях до вечера надо побывать. Конематки жеребиться начинают, глаз да глаз нужен.
– Я и говорю – совсем сдвинулась. – Макарьевна крутит пальцем у виска. – От такого жениха отказалась. Он при тебе действительно был как адъютант.
– Я, бабушка, не отказалась, а просто отложила свадьбу.
– И надолго?
– Видно будет. Кто столько лет ждал, еще подождать может.
– Ну да. А там его какая-нибудь городская краля подхватит. Или он сам ее попутно в кабину своего самосвала подберет. Да ты знаешь, от какого жениха ты отказалась? У его дядьки Данилы такие деньги, что он скоро здесь все конезаводы скупит.
– Вот то-то и оно. А для этого ему надо было своего внучатого племянника на главном коневоде нашего конезавода женить. Нет, конечно, Данька в этом ни капельки не виноват. Он еще сам как жеребенок – не видит и не знает, кроме своей Татьяны, ничего. Но дядька его далеко вперед умеет смотреть. Через племянника к коневоду, через коневода к генералу. И так от одного конезавода к другому всю табунную степь скупит.