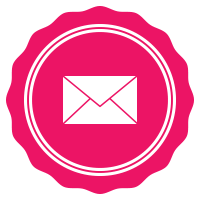– Цыганское радио передавало, будто бы он с какой-то германской фирмой хочет тут большое дело развернуть. Чтобы за доллары донских жеребцов и маток во всех странах продавать.
– Мы их и сами сможем продавать. Просто еще не научились.
– Генерал Стрепетов, я слыхала, дюже на тебя надеется, Татьяна. Недаром брешут, будто ты его побочная дочка. Будто он тебя с кем-то пригулял на старости лет. Не надышится на тебя. Я сама слышала на собрании в клубе, как он говорил, что теперь за конезавод спокоен. Хоть завтра согласен тебе с рук на руки передать, несмотря что ты молодая еще.
– Я, бабушка, не собираюсь в начальниках ходить. Не для того училась, чтобы смолоду задницей в мягком кресле сидеть. Я лошадей люблю.
– То-то ты их летом в ставке голяком купаешь. Совсем бесстыжая стала. А шофера проезжают по дороге мимо, останавливают машины и смотрят.
– Пускай, бабушка, посмотрят, – говорит равнодушно Татьяна, надевая тулуп. – Меня не убудет. Теперь по телеку с утра до вечера голых показывают, скоро мы привыкнем и дома так ходить.
– Я и говорю, что ты бесстыжая. И спишь голяком. Даже зимой.
– А вы, бабушка, смолоду так прямо в своей юбке и кофте спали?
– Еще чего выдумала. Ну и безобразия такого не было, чтобы, как ты, в штанах. Еще лампасы нацепи.
– Может, и придется. Вон наши казаки никак не найдут для себя атамана по всей табунной степи. В третий раз собираются на свой круг. Если и теперь не выберут, пришью лампасы и тоже на этот круг заявлюсь.
– Туда баб не пускают.
– Баб не пускают, а меня пусть только попробуют. Они у меня все – зоотехники, ветврачи и табунщики – вот где. – И Татьяна показывает зажатые кулаки. – Я их заставлю тогда по одному репешку из всех конских хвостов выбирать. Ты, бабушка, что-нибудь положила мне в сумку?
– Нет, голодную тебя отпущу. До тебя у меня такая же скаженная жила, только цыганка. Я ее тоже каждый день снаряжала. А потом она в город уехала и там убили ее. Но то давно было. Ты, небось, еще в школе училась.
– Кто ее убил? И за что?
– Говорят, выследила, кто ее разлюбимого Будулая чуток не убил. А ее и застукали в последний момент. Чтобы не совалась куда не надо. А то возмечтала даже на прокурора выучиться. Чтобы у цыган свой прокурор был. Вот и выучилась. – И, провожая Татьяну до калитки, Макарьевна предупреждает ее: – Смотри по сторонам. Степи у нас глухие, пропадешь – и хоть с вертолета ищи. – Вдруг увидев у калитки самосвал, Макарьевна радостно оповещает: – А вот и твой адъютант подъехал. Что же ты, верхи поедешь, а он тебя будет на самосвале сопровождать?
Распахнув дверцу самосвала и выглядывая из кабины, Данила, полуотвергнутый жених Татьяны, заявляет:
– Мне сам генерал Стрепетов приказал тебя, Таня, по всем отделениям провезти.
Татьяна треплет коня за холку и, отвязывая его от акации, передает поводья Макарьевне:
– Отведи, бабушка, в сарай. Повесь торбу с овсом и надергай из стога сена в ясли. Я тебе за это из степи подарок привезу.
Макарьевна усмехается:
– Жеребеночка?
– С жеребеночком я сейчас поеду по степи. – Татьяна смеется. – Он у меня смирненький, еще один год согласен подождать. Правда, Даня, подождешь?
Данила сердито захлопывает дверцу кабины.
– Вот я тебя высажу где-нибудь посреди степи и жди, когда кто-нибудь подберет, – грозится он. – Сейчас машины больше носами в сугробах стоят.
– Скорей я тебя высажу, сяду за руль, а ты за мной будешь следом бежать, – не остается в долгу Татьяна. – Хватит выступать. Это тебе не казачий круг. Трогай.
От отделения к отделению объезжает конезавод Татьяна Шаламова, главный коневод. За всем надо присмотреть. В родильном отделении разрешаются от бремени чистокровные донские конематки, пожилой усатый ветврач уже не в состоянии помочь кобылице, у которой не идет плод, и главный коневод, надев белый халат, сама помогает матке и жеребенку. А когда новорожденный появляется на свет, разгибаясь, презрительно говорит ветеринару:
– Тебе, Харитон Харитонович, уже пора только у кур роды принимать.
На другом отделении она сурово спрашивает у старшего табунщика Егора Романова:
– А эта рыжая кобыла откуда появилась?
– Приблудная, – шмыгая за голенищем сапога кнутовищем, отвечает Егор. – Выгнал табун на солнышко, а она тут как тут. Не дать же живой душе погибнуть?
– Смотри, Егор. Ты Указ Верховного Совета знаешь?
– У меня на нее и конский паспорт есть, – не сморгнув, отвечает Егор Романов.
– Это приблудная кобыла его в зубах тебе принесла? Чтобы ее и духу здесь не было. Где взял, туда и отгони. Еще не хватало, чтобы милиция сюда нагрянула с обыском.
Не доезжая третьего отделения, водитель самосвала, адъютант и бывший жених Татьяны, притормаживает.
– Все. Бензина только на обратную дорогу хватит, – говорит он. – Всего две банки залили и больше ни капли нет, а мотор жрет вдвое больше нормы. Самосвал-то старый. На нем до меня кто только не ездил.
– Эх ты. – Татьяна вылезает из кабины и спрыгивает в снег. – Кавалер. Заворачивай обратно. Здесь я и пешком дойду.
– А как же назад?
– Уж как-нибудь найдется для меня на отделении верховой конь. Без бензина доеду. Пора всю механизацию на конскую и воловую тягу переводить. При таком дефиците горючего в стране скоро президент со своей дачи до Кремля будет пешком ходить.
И она идет по дороге в степи, а ее водитель нерешительно развернул самосвал и медленно едет обратно. Пустынна укутанная снегом степь. Но уже лысеют вершины придорожных казачьих курганов, оттаивают на мартовском солнце. Грачи гомонят в лесополосах и выхаживают важно по обочинам дороги. Удаляясь на самосвале в сторону поселка, водитель-жених видит в смотровое зеркало одинокую фигурку, которая, уменьшаясь, скоро превратилась в далекую черную точку.
Идет по дороге главный коневод в теплой ондатровой шапке, в тулупе, в джинсах и в сапожках на высоких каблучках. Внимательно осматривается по сторонам и вдруг видит за скирдой лошадей. Решительно сворачивает с дороги к скирде, натыкается на двух мужчин с автоматами и спрашивает:
– Кто такие? Откуда у вас конематки?
– С Первомайского конезавода гоним за Дон. Вот и документы.
Один из мужчин, приставив автомат к ноге, лезет за документами за пазуху. Главный коневод внимательно читает их, в то время как другой мужчина игриво спрашивает у Татьяны:
– А ты кто такая будешь, чтобы документы проверять? Небось, замерзла одна в степи. Может быть, погреемся?
Возвращая первому мужчине документы, Татьяна спокойно говорит:
– Все в порядке. Действительно, обе конематки куплены на Первомайском заводе одна за сорок, другая за пятьдесят тысяч. Но, во-первых, сейчас уже такой цены нет. А во-вторых, в Первомайском разводят буденновскую породу, а это с нашего конезавода матки. Донская элита.
Теперь уже и первый мужчина, вскидывая автомат, говорит:
– Проваливай своей дорогой, пока сама цела. Я тебя давно знаю. Едем, Стас.
Его дружок, Стас, садится верхом на кобылу, но когда первый мужчина, поставив ногу в стремя, тоже хочет вскинуться в седло, Татьяна неожиданно выдергивает у него автомат и, отступив на несколько шагов назад, приказывает:
– Слезайте с лошадей. Но, но, – предупреждает она Стаса, который хватается за свой автомат. – Я тебя сразу перережу пополам. Кому говорю – слезайте!
Конокрады растерянно повинуются ей. Старший, тот, у которого документы, переглядывается со Стасом, явно стараясь оттянуть время, но Стас вдруг кричит ему:
– Самосвал!
Налетает, сворачивая с дороги, тот самый самосвал, за рулем которого сидит бывший жених Татьяны. Теперь уже и он выскакивает из кабины с двустволкой в руках, кричит:
– Руки вверх!
Конокрады нехотя поднимают руки. Данила разоружает Стаса.
– Вяжи им, Даня, руки, – говорит Татьяна.
– Зачем вязать? – говорит миролюбиво старший конокрад. – Можно и полюбовно. – И он протягивает Татьяне сумку. – Тут ровно двести тысяч.
– Вяжи, – говорит Татьяна. И пока Данила, взяв из самосвала моток проволоки, вяжет конокрадам руки за спиной, она говорит им: – Мало с собой откупного возите. За таких кобылиц теперь вдвое больше дают.
– Можно и втрое, – обрадованно говорит старший конокрад. – Надо только доехать до ресторана на яру, над Доном. Знаете? Его еще крепостью и теремом называют.
– Как же, знакомый нам терем. Правда, Даня? – обращается она к своему бывшему жениху. – Знаем мы и хозяина этого ресторана. Ты кем ему приходишься, Даня? Внучатым племянником, да?
Старший конокрад совсем радостно говорит:
– Так это же на вашей свадьбе мы были. Тогда совсем другое дело. А я вижу, лицо ваше мне знакомое. Тогда нам стоит только к твоему родичу заехать – и все будет в порядке.
– Придется нам сперва в милицию заехать. Давайте я вам соломы подстелю и подсажу в самосвал.
– Вот и мне теперь есть на чем доехать до отделения, – вскидываясь в седло, говорит Татьяна. – Смотри, Даня, не потеряй их по дороге – тебя твой дедушка за это по головке не погладит. Драгоценный груз везешь.
– Никакого родственника мы не знаем, ничего вам не говорили и ваших конематок видим в первый раз, – кричит, выглядывая из-за борта кузова один из конокрадов. – Мы еще с тобой встретимся, коневод.
– Ну конечно. – Татьяна смеется. – Через год нам еще придется свадьбу доиграть. А можно, Даня, ее и на пять лет отложить, чтобы таких гостей не потерять. По уголовному кодексу сколько за конокрадство полагается?
Старший конокрад говорит спокойно:
– Это смотря сколько следователю и судье дадут.
– У твоего родственника, Даня, денег много, а государству сейчас они нужны. Смотри, не потеряй по дороге такой груз.
И Татьяна отпускает поводья лошади, на которой она сидит в седле ровно, как свечка. Другую лошадь она ведет рядом с собой в поводу. Самосвал разворачивается и едет в обратную сторону. На соломенной подстилке в его кузове, прислонясь к стенке кабины, сидят двое конокрадов, о чем-то разговаривая.
В разные стороны разъезжаются Татьяна на лошади и ее неудавшийся жених на самосвале.
Ваня Пухляков поднимается по стареньким шатким ступенькам в такой же старый курень на окраине хутора под горой. Еще чакановой крышей покрыт он. Добротная, теплая в холода, а в жару прохладная крыша, обстриженная аккуратно по краям. Видно, когда-то хозяин дома знал, как надо на долгую жизнь увенчивать крышей дом.
На скрип двери поднимается с кровати такой же старый, как и его курень, хозяин, стучит деревянным протезом по полу.
– Кто там? Какого гостя Бог послал? Доброго или злого?
– Доброго, дедушка Муравель, доброго, – говорит Ваня Пухляков.
Хозяин дома даже отступает на шаг назад.
– Будулай! Да откуда ты взялся?
Ваня ставит на стол большую плетеную корзинку и говорит укоризненно:
– И вы туда же, дедушка Муравель. Неужто я на какого-то залетного цыгана похож?
Дедушка Муравель приближается к нему вплотную, моргает подслеповатыми глазами.
– Постой, постой… Если не Будулай, то кто же ты такой? Действительно, Будулай уже старик, а ты еще молодой, хоть и с бородой. Она меня и попутала. Ты чей будешь?
– Вот, мама вам каймака стопила, – говорит Ваня Пухляков, доставая из корзинки махотку и ставя ее на стол. – И еще кое-что приказала передать. – Он выкладывает на стол яички, круги домашней колбасы, последней вынимает бутыль с вином.
Дед Муравель, бросив взгляд на оплетенную красноталом бутыль, привычно шмыгает носом.
– Вот теперь узнаю. Ты же Клавдии Пухляковой сынок, да? Ваней тебя, кажется, кличут. Это только твоя мать балует меня вином. Все другие забыли старика. – Он за плечо поворачивает Ваню лицом к свету и всматривается в его черты. – Теперь вижу, что это ты. Я еще обещал на твоей свадьбе погулять. Несмотря на свой протез, с твоей матерью станцевать. – Он подпер рукой бок и постукал протезом по полу. – Все забыли старика. Теперь вот скорая помощь мою бабку в больницу отвезла, и я совсем один остался. Значит, ты уже вернулся со службы, Ваня?
– Вернулся, дедушка Муравель.
– Ну, садись, рассказывай. Только погромче, я после плена совсем плохо слышу.
– Я, дедушка Муравель, после плена тоже только в себя пришел.
– Что ты там городишь? Какой у тебя плен может быть? – Дед Муравель проводит ладонью по лбу. – Или у меня все перепуталось в голове? Война уже сорок с лишним лет как кончилась, какой может быть плен?
– Одна, дедушка, сорок лет назад, а другая только теперь кончилась.
– Ну так сразу бы и сказал, что ты афганец. Это совсем другая война была. На той войне нас, когда мы в Румынию, в Венгрию вступали, освободителями называли, а вас теперь…
– И нас, и вас, дедушка Муравель, теперь оккупантами зовут, – заканчивает вместо него Ваня.
Дед Муравель садится против Вани за стол, кладет на бутыль руку и понуро кивает головой.
– Выходит, сравнялись мы теперь с тобой. Ну так, значит, давай вместе и выпьем. Ты был в плену и я был в плену. Ты теперь оккупант и я оккупант.
Он берет с подоконника две кружки, наклонив бутыль, как всегда бережно, чтобы не пролить ни капли, нацеживает в кружки вино. Молча придвигает кружку к Ване. Молча Ваня чокается с ним. Оба выпивают вино из кружек до дна. Хозяин сокрушается:
– Вот только закусить у меня нечем.
– Как это нечем? – возражает Ваня. – Это уже при мне мы зарезали кабана. – Он придвигает к дедушке Муравлю круг домашней колбасы. – А это мама пирожков с курагой напекла.
– Она знает, что я люблю с курагой. Бывало, сторожую я в степи или коней пасу, она мне и пирожков принесет, и бутылочку с пухляковским вином.
Ваня смотрит на дедушку Муравля и спрашивает едва слышно:
– Говорят, вы первый увидели в кукурузе, когда танком раздавило цыганскую кибитку .
– Как это, когда раздавило? Я эту цыганку видел, когда она еще живая была. Расстелила посреди кукурузы одеяло, села и сразу из обеих грудей кормит двух младенчиков. Мальчика и девочку. А старик у кибитки колесо починял. Я еще напустился на них, что они заехали прямо в кукурузу. Но цыганка заплакала и говорит: «Кукуруза, мой яхонтовый, высокая, здесь нас не так будет видно, пока отец колесо починит. Да и детишек уже время кормить».
– А потом что было, дедушка?
– Потом все так быстро случилось, что я успел только шарахнуться в канаву и залечь. От Раздорской выскочил немецкий танк и прямо на кибитку и на одеяло, на котором она сидела и кормила деток. Да еще и повернулся, как утюг на месте. Когда я потом подошел, там вся земля с цыганскими лоскутьями и с кровью перемешана была.
– А дальше что было, дедушка, дальше? – выспрашивает Ваня.
– Это ты лучше у своей матери спроси. Она тогда тоже в кукурузе хоронилась, и как раз ей там приспело тебя и Нюрку родить.
– Это когда, дедушка, было?
– Память уже у меня стала дырявая, только хорошо знаю, что летом, потому как кукуруза уже выше роста была. – Дед прикладывает руку ко лбу. – Нет, помню: в июле месяце. В аккурат после того, как немцы взяли Шахты и Ростов. Да разве ты не знаешь, когда родился? Там же на горе и цыганская могилка была. Хорошо, что бабка Лущилиха тогда твоей мамке помогла детишек домой принести. Помню, Нюру Клавдия в фартуке принесла, а тебя в каком-то одеяльце из лоскутов.
– Из каких, дедушка, лоскутов?
– Это ты от меня больше, чем я знаю, хочешь узнать. Расспроси получше свою мать. Помню только, как старик закричал: «Зульфия, танки!»
– Зульфия? – переспрашивает Ваня.
– У цыган, как ты знаешь, свои имена. Бывают и русские, но больше свои. Давай, Ваня, помянем эту цыганку.
– Давай, дедушка Муравель.
Они пьют не чокаясь.
– А теперь, Ваня, ты мне рассказывай про свой плен. И про то, как ты теперь оккупантом стал. Рассказывай, но больше мы пить не будем. Мне уже сердце не позволяет через край пить, а ты еще молодой. Не надо привыкать. Жизнь она, конечно, сейчас к этому располагает. Больше почти ничего не остается, как вино пить и с дружками о прошлом вспоминать, но у тебя еще все впереди, Ваня.
Ваня качает головой:
– У меня уже больше в прошлом, дедушка Муравель. И впереди уже, кажется, ничего больше нет.
– Ты это брось, – решительно не соглашается дедушка Муравель. – Я еще рассчитываю на твоей свадьбе погулять. – Он пристукивает старым деревянным протезом по полу и напевает:
Мы, донские казаки,
Царю верно служим,
По границам разъезжаем,
Ни о чем не тужим…
Будулай уже перекрыл крышу дома, в котором он живет с Галей и с дочерью, отремонтировал и покрасил ворота и теперь пролет за пролетом натягивает вокруг двора сетку, меняя ее там, где она проржавела и продырявилась. Распахиваются настежь рамы окна во двор, слышен кашель. Высовывается Галя и просит Будулая:
– Вынеси меня во двор, Будулай. Душно здесь. Воздуху нет.
Будулай поднимается по ступенькам, входит в комнату к Гале с подушкой кислорода.
– Нет, Будулай, он мне не помогает. Хочу во двор. – И Галя захлебывается в новом приступе кашля. – Если бы Маша не уехала, она бы мне сейчас укол сделала.
Выносит Будулай укутанную в тулуп, в теплую шаль, обутую в валенки Галю из дома на руках и, усаживая на скамью под деревом, успокаивает ее:
– Она должна скоро приехать. На том краю какая-то немка с семьей вернулась домой, глянула на свою усадьбу и от радости замертво упала.
Сквозь приступ кашля, от которого содрогается все ее тело, Галя говорит:
– А та, эвакуированная с Дона казачка, какая занимала ее дом, увидела старую хозяйку, и ее разбил паралич. У немки четверо детей, у казачки шестеро. Ты бы, Будулай, хоть в воскресенье отдохнул. В кузне все тюкаешь и тюкаешь молотком, а здесь топором или красишь. Все равно же нам тут не жить.
– Вы с Машей сколько лет здесь прожили?
– Да уже почти сорок.
– И за это время не ремонтировали же дом?
– Кому было ремонтировать? Тут все эвакуированные солдатки жили. На весь поселок было мужчин шесть стариков.
– Прости меня, Галя. – Он отворачивается, чтобы смахнуть непрошеную слезинку. – Но теперь скоро вернутся хозяева и надо, чтобы они дом в порядке нашли. Пусть это будет им вместо квартирной платы за эти сорок лет.
– Вот теперь, на воздухе, мне и дышать стало легче, – говорит Галя. – Совсем меня эта астма задушила. – Как вдруг, схватившись за грудь, она опять захлебывается в длительном приступе кашля.
Будулай мечется возле нее, несет из дома кислородную подушку, пытается напоить молоком, даже несет бутылку вина, но Галя отказывается от всего. Кашляет, обхватив руками грудь и переламываясь надвое. Будулай хочет поднять ее на руки и отнести в дом, но она протестует. Тогда он выскакивает за ворота, останавливает машину, говорит что-то водителю, указывая рукой вдоль улицы. Водитель кивает головой и трогается с места.
Страшный кашель сотрясает Галю. Совсем растерялся Будулай к тому времени, когда подъезжают к воротам сани с Марией. Она ногой распахивает калитку, подбегает к матери, роется в своей сумке, доставая ампулы и шприцы. И вот уже Галя перестает кашлять, откидывается на спинку скамьи, закрывает глаза. Будулай поднимает ее на руки и несет в дом.
– Нужен доктор, батя, – говорит ему Маша. – Я уже не смогу ей помочь. Никогда еще такого приступа не было.
Будулай спускается по ступенькам, садится в сани и взмахивает кнутом. Лошади рвутся с места. Дорога накатана, сани летят быстро, но ему кажется, будто они тащатся, и он то и дело поторапливает кнутом лошадей. В большой поселок, в райцентр, он уже врывается на взмыленных лошадях. Взбегает по каменным ступенькам в здание больницы. Медсестра, зевая, говорит ему:
– У нас всего один врач остался. Весь день оперировал, а теперь пошел домой спать.
– Где он живет? – спрашивает Будулай.
Она выходит с ним на крыльцо, показывает рукой вдоль улицы. Будулай мчится в санях, стоя во весь рост. Врывается в дом к врачу.
– Куда? Куда? – пытается остановить его жена врача, заступая дорогу. – Он всю ночь не спал, полчаса, как лег.
Будулай отталкивает ее, влетает в спальню, трясет врача за плечо. Тот пытается протестовать, но, увидев искаженное яростью лицо Будулая, молча подчиняется ему и идет к выходу, на ходу натягивая одежду. От жены, которая пытается заступиться за него, он отмахивается рукой. И вот уже сани мчатся по степи обратно. Стемнело, лошади храпят и прядают ушами. Будулай безжалостно хлещет их кнутом, врач кричит ему из-за плеча:
– Перевернешь, цыганская морда!
Не оборачиваясь, гонит лошадей Будулай. Врач кричит в страхе:
– Волки! Волки!
Зеленые огоньки мерцают в темноте, приближаясь к саням. Будулай хлещет лошадей. Один волк вырывается из стаи и бежит рядом с санями. Будулай, передав врачу вожжи, хлещет кнутом вокруг себя, стоя во весь рост в санях. Но вот и поселок. Зеленые огоньки отстают – устали волки. Сани останавливаются у ворот дома, в котором живет Будулай. Врач взбегает по ступенькам, в дверях его встречает Мария. Рыдания сотрясают ее. Она говорит что-то врачу, он отстраняет ее рукой и бросается в дом. Будулай замирает как вкопанный на последней ступеньке крыльца. Вот уже и врач вышел на крыльцо. Будулай успевает подхватить падающую с крыльца Машу. Она рыдает у него на груди.
– Поздно уже, батя. Умерла мама. Я ничего не могла сделать. Прости меня, батя. Ничего не могла…
Когда-то Будулай стоял у могилы над хутором на крутобережье Дона в уверенности, что в ней похоронена Галя. Теперь он стоит у ее могилы в заволжской степи. Все давно разошлись с кладбища, последней увел его рыдающую безутешно дочь ее жених. Будулай остался один. Совсем один.
Но нет, какая-то машина подъехала к воротам кладбища, из нее вышел хорошо одетый мужчина. Подошел к Будулаю, положил руку ему на плечо.
– Здравствуй, Будулай. Я тебя долго искал и вот, наконец, нашел. Думал, что и Галю найду, да вот, не успел, – говорит он.
Будулай узнает его почти мгновенно, припадает к его плечу.
– Спасибо, дядя Данила. Спасибо тебе. Как же ты меня нашел?
– Цыганское радио помогло. Я тут за Волгой оставшихся от немцев першеронов закупаю. А мне сказали, что их какой-то цыган кует. Я и вычислил тебя. Кто же еще сможет першеронов подковывать? Ты на всю донскую степь один умел.
– Я рад тебе, дядя Данила.
– Ты теперь здесь совсем один остался.
– У меня есть дочь, дядя Данила.
– Но мне успели сообщить, что она вот-вот замуж выскочит. Это уже отрезанный ломоть. А на Дону у тебя много родичей. И я, как-никак, тебе родной дядя. Поедем со мной, есть у меня для тебя дело. Мне верный человек нужен. Ты лошадей любишь, Будулай, знаешь в них толк. Мне как раз такой человек и нужен.
– Дочка у меня здесь, дядя Данила, – говорит Будулай.
– И дочку потом заберем с собой. Вместе с мужем. Мне сказали, он из немцев. А я там на Дону с германской фирмой дело имею. Мне ты очень нужен, Будулай. И я, по-моему, нужен тебе. Давай поедем к тебе домой, там и поговорим.
И вот они уже едут в хорошей дорогой машине, продолжая разговор. Собственно, почти всю дорогу говорит один Данила, а Будулай только слушает.
– Там тебя и цыгане, и казаки помнят. Они никак не могут на всю табунную степь атамана найти. А ты ведь как-никак всю Отечественную в конном корпусе прослужил.
– У моей дочки скоро дите будет, дядя Данила. У меня больше, как ты знаешь, ни детей, ни внуков нет.
Машина подвозит их ко двору Будулая, в котором уже толпятся гости, пришедшие помянуть его жену Галю. Заплаканная Мария встречает Будулая и дядю Данилу в дверях.
– Ну точь-в-точь Галя, – радостно удивляется дядя Данила, обнимает и целует Марию и достает из кармана теплой, подбитой хорошим мехом шубы большой сверток. Многоцветная, яркая и дорогая цыганская шаль мягко укутывает плечи Марии. – Вез я ее твоей матери, пусть достанется тебе, – говорит дядя Данила. – Носи, Маша. Да помоги мне уговорить твоего отца съездить со мной на Дон. Нельзя ему теперь со своим горем оставаться один на один. Будет на могилу ходить и совсем зачахнет. Помоги мне, Маша, уговорить моего племянника и своего отца.
С этими словами они и входят в дом, в котором уже собрались гости вокруг заставленного тарелками и бутылками стола, чтобы помянуть покойницу.
На конезаводе к клубу, который посередине поселка, тянутся люди, подъезжают машины. Из них выпрыгивают мужчины и женщины, казаки в шароварах с красными лампасами, цыгане, которых сразу же можно узнать по одежде. Из степи подъезжают на полуобъезженных лошадях табунщики и, привязав их к стволам деревьев, к штакетнику, тоже спешат в клуб, хотя он давно уже битком набит.
На сцене за столиком всего два человека: начальник конезавода генерал Стрепетов и бравый молодой казак с усами, как поется в казачьей песне, торчащими в разные стороны, как копья мечей. Вставая за столиком, казак предупреждает:
– Концерт афганцев начнется только после того, как мы проведем казачий круг.
Из зала раздаются выкрики:
– Это уже третий раз кружитесь?
– Придется атамана у соседей покупать.
– Сворачивайте круг и давайте концерт.
Потрогав усы и шашку на боку, казак сурово предупреждает:
– Всех присутствующих баб, извиняюсь, женщин с ребятишками, а также цыган прошу удалиться. Остаются только казаки.
Из зала к самой сцене выскакивает Егор Романов с негодующим протестом:
– Я в Донском корпусе служил. Так кто же теперь казак? Который молокосос или который верхом до Австрийских Альп дошел?
Егора поддерживают репликами:
– Как при табунах, так все равные, а здесь мы не казаки?
Кричат и цыганки. Голос Шелоро перекрывает всех. Она встает в переднем ряду, бренча монистами и сверкая серьгами:
– Не имеете права женщин выгонять. Вот забастуем, и тогда идите все к бабушке Макарьевне целоваться.
Но бабушка Макарьевна не согласна с этим:
– У меня в корчме все равные: и казаки, и цыгане, и разные гости с далеких краев.
Зал отвечает на ее слова всеобщим смехом:
– Макарьевна поит всех подряд. Насыплет в другака махорки и продает за первый сорт.
Так и взвивается Макарьевна:
– Брешешь, Пустошкин. Это твоя Малаша настоянное на махре вино продает, а у меня – как слеза.
Казак со сцены пытается успокоить присутствующих:
– Будете так шуметь, не дождаться вам концерта. Очистите зал. Мы пока атамана не выберем, ни за что не уйдем.
Опять из зала летят выкрики:
– Пускай генерал Стрепетов выскажется насчет цыган. У нас половина табунщиков казаки, а половина цыгане.
Вставая за столом, генерал Стрепетов разъясняет:
– Это я на конезаводе начальник, а казачий круг поручено представителю из области провести. Я могу только свое личное мнение высказать как старый донской казак. У меня в дивизии кто служил, всех казаками называли. И на моем конезаводе у нас никакой разницы между русскими, цыганами, чеченцами, осетинами и другими нациями нет.
Казак, представительствующий от областного круга, уступает:
– Мы к ветеранам прислушиваемся. Хотя и не во всем. Пускай все мужчины останутся, а женщины пока, до концерта, погуляют во дворе. Мы их вежливо просим, чтобы после казачьего круга послушать музыку и вместе потанцевать.
Главный коневод конезавода Татьяна, вставая с места и направляясь к выходу, насмешливо говорит:
– По четвертому кругу одни женщины останутся в клубе атамана выбирать.
Шелоро, тоже направляясь вслед за ней к выходу, добавляет:
– У нас уже есть на примете свой атаман. Остается только на штаны лампасы нашить. Все мужики конокрадов боятся, а Татьяна двоих сумела застукать.
Тянутся женщины к выходу, но ребятишки, рассеясь по клубу, прячутся по темным уголкам.
Вечереет. Площадь перед клубом заполнена женщинами, разговаривающими с афганцами, которые гуляют среди них в ожидании когда их позовут давать концерт. Из освещенных окон клуба льются потоки света, из-за дверей раздаются выкрики:
– Любо, любо!
– Не желаем. Пускай он сперва из партии выйдет.
– Я в партию в госпитале вступал. После того как мне обе ноги отняли.
Женщины на площади, прислушиваясь, сопровождают эти крики своими комментариями:
– Никогда у нас на конезаводе такого раскола не было.
– Скоро и у нас как в Грузии или в Молдавии пойдет.
– Кому-то, значит, интересно людей друг с другом стравить.
Вокруг Татьяны столпились афганцы:
– Так это ты со свадьбы сбежала?
– Значит, так надо было, – отвечает Татьяна.
– Наш капитан, кажется, тебе знакомый был?
– Вы у него сами спросите.
– Вот дадим концерт и по пути заедем к нему в хутор. Привет от тебя передать?
Из-за дверей клуба опять доносится:
– Какой из Харитона атаман? Ему только собак бродячих обдирать. Весь район в собачьи бурки обул.
– Генерала Стрепетова в атаманы.
– Любо, любо!
– Долой, долой!
Бас генерала Стрепетова вырывается из раскрывшейся двери, из которой вышвыривается на площадь стайка ребят:
– Я свое откомандовал. Вот отобьем донскую элиту и на пенсию уйду.
Женщины на площади ропщут:
– Без него мы совсем пропадем. У каждой семьи теперь отдельный коттедж, машинами обзавелись.
– Он только по наружности суровый.
– Неужто уйдет? Пропадет без него конезавод.
Шелоро подтверждает:
– Старый Данила, дядька нашего Будулая, сразу его купит. С германской фирмой связался и скоро всю табунную степь закупит.
Услышав эти слова, Татьяна решительно заявляет:
– Не светит дядьке вашего Будулая табунную степь сгубить.
– Правильно, Татьяна!
– Если генерал уйдет, бери конезавод в свои руки.
– Молодая она.
– Не то молодо, что молодо, а то, что без ума.
Между тем афганцы, нервничая, спрашивают у Татьяны:
– Скоро они там раскружатся? За нами вот-вот автобус с Первомайского конезавода должен прийти.
Вдруг настежь распахиваются двери клуба, появляется на пороге мрачный, как туча, генерал Стрепетов.
– Можете, кто хочет петь и плясать, заходить.
Из клуба раздается:
– Любо, любо!
– Долой, долой!
Проходя через расступающуюся перед ним толпу, генерал Стрепетов говорит:
– Я в этой вражде больше не участвую. Никогда на нашем конезаводе такого не было. Опять белые и красные, свои и чужие. По четвертому кругу будут атамана выбирать.
И вот уже в клубе выступает оркестр бывших на войне в Афганистане солдат. Одну за другой поют афганские, казачьи и другие песни. Набившиеся битком в клуб люди восторженно удивляются:
– И казачьи успели выучить?! И цыганские?! Но свои, афганские, они лучше всего поют.
Выходит на сцену сержант и объявляет:
– А последнюю песню мы посвящаем вашему главному коневоду Татьяне Шаламовой.
Из-за его спины появляется солист оркестра и поет:
Над всей землей метет метель…
Но не успевает он продолжить песню, как по ступенькам поднимается из зала Татьяна, главный коневод, и, отстранив его рукой, заявляет:
– Раз эта песня посвящается мне, то я и буду ее петь. Я ее хорошо запомнила.
После некоторого замешательства оркестр опять начинает играть мелодию, и Татьяна поет:
Мне говорят: дороги нет
И нет любви в наш век жестокий,
Но я все так же вижу свет,
И мне уже не одиноко.
Вдруг вскакивает с места в переднем ряду жених Татьяны Данила и, ссутулившись, бредет по проходу к выходу. Заключительные слова песни как будто толкают его в спину, он то и дело спотыкается. Все провожают его взглядами.
Играет оркестр из бывших на войне в Афганистане солдат.
Ваня Пухляков, спустившись из дома по ступенькам с пластмассовым кувшином в руке, осматривается по сторонам, выглядывает за забор на улицу и потом идет к двери погреба. Екатерина Калмыкова входит в калитку, поднимается по ступенькам в дом, возвращается через некоторое время. Осматривается по сторонам и, увидев открытую настежь дверь погреба, тоже ныряет в него.
Ваня Пухляков, подставив к бочонку с краном кувшин, нацеживает в него вино. Услышав за своей спиной шорох, вздрагивает, поворачивается. Вино из крана льется на землю. Екатерина спешит закрыть кран.
– Ты что, капитан, с ума сошел? Даешь такому добру пропадать. С чего это тебе вздумалось сегодня гулять? А мать где?
– Мать на острове.
– По своей, извиняюсь, дурости в сторожа превратилась. Ну, если ты вино уже налил, то я к твоей компании присоединиться не прочь. – И она идет вслед за Ваней в дом, не забыв закрыть за собой погреб и замкнуть его на замок. – У меня своего вина уже не осталось, давай посидим с тобой. Ты так ко мне и не собрался в гости зайти, про афганскую войну рассказать.
Они сидят за столом, перед ними стаканы с вином, и Ваня пасмурно говорит:
– Мне не о чем рассказывать.
– Как это не о чем? А про то, как донской казак умудрился к душманам в плен попасть? Как они могли тебя захватить?
– По моей собственной дурости. Когда нас в горах окружили, все патроны расстрелял, а последнего для себя не оставил. Тут меня и контузило. Очнулся уже в яме.
– В какой яме?
– В обыкновенной. Как глубокий колодец. Только у нас колодцы обкладывают камнем, а там обмазывают какой-то глиной еще покрепче цемента. Не за что зацепиться, я себе все ногти посрывал.
– А что же ты ел?
– В корзинке на веревке спускали еду и воду. Вы, когда в школе учились, книжку «Кавказский пленник» проходили?
– Давно это было. Не помню уже.
– А я там вспомнил, когда в яме сидел. Это рассказ Льва Николаевича Толстого. Там тоже пленник в яме сидел.
– А как же на допросы тебя водили?
– Лестницу спустят, вылезу наверх, руки назад заломят и на веревке тащат.
– Это похуже, чем гестапо. Вот сволочи.
– Они мне говорили, что это мы сволочи. На чужую землю пришли.
– Били тебя?
– Скучно об этом рассказывать. Давай лучше выпьем. Мусульманскую веру требовали принять.
– Это что же означает? Это что же, Ваня, тебе обрезание хотели сделать?
– Не смейтесь, тетя Катя. И до этого могло дойти, если бы мне не помогли убежать. Некоторые наши пленные ребята их веру приняли. Женились на мусульманках и ничего себе, живут.
– А кто же тебе помог убежать?
– Среди них тоже разные люди есть. Если бы вы, тетя Катя, вспомнили про кавказского пленника, вы бы догадались, как. Короче, помогли мне и потом спрятали в Пешаваре, дали свою одежду, и я жил какое-то время среди них. Говорили, что я и лицом, и мастью совсем как пакистанец. Ну, значит, как индус или цыган. Наши цыгане, вроде Будулая, тоже когда-то жили в этих местах. А потом мне удалось с пуштунами обратно через границу перейти.
– Что это еще за пуштуны?
– Это такое племя, которое в Афганистане и в Пакистане живет. Туда и обратно кочует на верблюдах и на лошадях. Вот они и меня взяли с собой. А там уже я добрался до своих.
– Давай, Ваня, выпьем и за этих пуштунов. Среди них, оказывается, тоже хорошие люди есть.
– Давайте. Среди всех есть люди и хорошие и плохие. Смотря с какой стороны на них взглянуть. Мне говорили на допросах, что русские – самые плохие, раз они на чужую землю со своими порядками пришли. Вот почему они и объявили газават.
Голос Клавдии заставляет обернуться и Ваню, и Екатерину:
– А что это такое – газават?
– По ихнему это священная война.
Клавдия, снимая с плеча ружье и раздеваясь, подходит к шкафчику и берет оттуда третий стакан.
– Оказывается, у вас здесь согреться можно. Это хорошо, Ваня, что ты не один, а с дорогой гостьей пьешь. Какая же это священная война, если ты там в яме сидел?
Ваня наливает матери из кувшина в стакан.
– А разве, мама, когда немцы на нашу землю пришли, мы не пели: «Идет война народная, священная война»?
– Так это ведь были фашисты. Ты что же с ними наших солдат сравнил?
– А вот они на допросах сравнивали. И не только на допросах.
Отпив из своего стакана, Клавдия медленно говорит:
– Пора уже, Ваня, тебе об этом забывать.
– Я, мама, и рад бы забыть.
– И пора тебе перестать наведываться в погреб. Это к добру не приведет. Тебе, Ваня, пора на работу устраиваться. У меня об этом председатель уже не раз спрашивал. Ты же когда-то хорошим кузнецом был, а в станичной мастерской сейчас как раз нет кузнецов.
– Я, мама, после этого кем только не был. Но лучше всего научился убивать на войне. Такая профессия в нашем колхозе не требуется?
– Ты, Ваня, с матерью шути, да меру знай, – вмешивается в разговор Екатерина. – Еще не хватало, чтобы афганцы теперь начали людей убивать. Для этого без них хватает мастеров. Мы надеялись, что вы вернетесь и порядок наведете. Конечно, можно и отдохнуть, и погулять, но кто-то должен в стране порядок наводить.
– Нас никто, тетя Катя, слушать не будет. Сейчас уже стали все отворачиваться от афганцев и чуть ли не оккупантами называть. Так же, как в Литве или в той же Румынии ветеранов Отечественной войны.
Клавдия ставит на стол недопитый стакан.
– Тебе, Ваня, надо успокоиться и перестать пить. Нельзя же по целым дням одному-одинешеньку дома сидеть?
Вдруг Ваня Пухляков поднимает на мать глаза и говорит, но уже переводя взгляд на Екатерину:
– Ты мне лучше скажи, мама, как ты смогла всю жизнь дожидаться того, кого любила. Теперь так не умеют. И отца ты полжизни ждала. А когда уже твердо поверила, что его нет, другого стала ждать. Ты его, мама, до сих пор ждешь?
Напряженно слушая разговор матери с сыном, Екатерина Калмыкова давно уже не дотрагивается до своего стакана и сидит, опустив глаза.
Еле слышно Клавдия отвечает сыну:
– Не знаю, Ваня. На чужом несчастье своего счастья никогда построить нельзя.
– Почему же, мама, на чужом? Тебе больше от меня не нужно скрывать, мама. Я, когда в яме сидел, все высчитал до конца. И все понял. Понял и почему Будулай из хутора ушел.
Не сразу отвечает Клавдия:
– Я знала, что ты и сам уже догадывался. Но, оказывается, и я, и ты ошиблись. Не Будулая жена была похоронена в той могиле на горе.
Мгновенно трезвеет Ваня:
– А чья же?
– Его жена нашлась и прислала за ним дочь. Красивая цыганочка. Таких же лет, как и ты.
С жгучим интересом Ваня спрашивает у матери:
– И похожа на Будулая?
– Все цыгане, по-моему, друг на друга похожи. Я ведь не видела его жену. Может быть, его дочка больше похожа на свою мать.
Вставая из-за стола, Ваня отодвигает от себя стакан, отставляет кувшин и твердо говорит:
– Все, мама. Можешь больше не беспокоиться – я теперь не буду в погреб ходить.
Все время молчавшая Екатерина Калмыкова, спохватывается:
– Вот тебе и раз. В кои веки собралась с тобой посидеть, а теперь, выходит, мне надо другую компанию искать. Я на это не согласна.
– Я тебе, Катя, своего сына не дам портить, – улыбаясь сквозь слезы, говорит Клавдия. – Еще успеешь когда-нибудь на его свадьбе погулять. Вот тогда я все бочки выкачу из погреба.
– На какой свадьбе, мама? – с удивлением спрашивает Ваня. – О чем ты говоришь? Никакой свадьбы больше не будет.
Екатерина Калмыкова возражает:
– Не зарекайся, Ваня. Будет и свадьба, погуляю на ней и я. Во-первых, товарищ капитан, такие, как ты, мужчины долго в холостых не ходят. А во-вторых, как мне передавали, по твоей вине одна невеста решила свою свадьбу отложить.
Сурово отвечает на это Ваня Пухляков:
– Пусть она все что угодно решает. У нее для этого было в запасе два года. За эти два года она должна была все обдумать. Не беспокойся, мама, я в погреб больше не буду ходить. Я туда больше ни ногой. И к председателю в станицу поеду в мастерскую наниматься. Не зря же меня Будулай в своей кузне учил.
– Не зря, сынок, не зря.
– И вообще, мама, мне на трезвую голову еще кое в чем разобраться надо. И я обязательно разберусь.
В доме у Макарьевны она разговаривает с Татьяной:
– Чтой-то ты там вяжешь? – спрашивает у нее Макарьевна.
Не поднимая головы, Татьяна коротко отвечает:
– Свитер.
Макарьевна допытывается:
– Кому?
– Вам, бабушка, все нужно знать.
Татьяна вдруг зарывается лицом в вязанье, плечи у нее трясутся.
Макарьевна сердито успокаивает ее:
– Запуталась ты, девка, между двумя соснами, а теперь же сама и ревешь. Каких еще тебе надо женихов? И Данька сам на себя не стал похож. Вот довяжешь свитер к свадьбе и кончай эту комедию. Не обязательно ее в ресторане у этого старого цыгана играть. Мы в нашем клубе доиграем ее еще лучше, чем в ресторане. Да не реви ты, дуреха. А говорят, что ты даже конокрадов сумела повязать. Все чисто на заводе боятся тебя, атаманом называют. Оказывается, из тебя атаман, как из говна пуля.
Татьяна, отрывая лицо от вязанья, соглашается:
– Правильно, бабушка, ругайте меня. Я сама во всем виновата. А как дальше быть, тоже не знаю. Вы, бабушка, когда-нибудь любили… сразу двоих?
– Еще чего вздумала. Родители не спрашивали у меня, люблю я или нет. Приехали сваты, потом позвали меня и сказали: вот твой жених. Не из кого было выбирать.
– Если бы, бабушка, я не в детдоме выросла, то согласна была бы, чтобы мне родители выбрали жениха.
– Ничего, еще найдется, кто получше этих двух. Ты одна на всю табунную степь такая. И девка, и мужик. Недаром говорят, что ты генерала Стрепетова побочная дочь.
– Это он меня, когда в один год умерли папа и мама, а соседи сдали меня в детский дом, отыскал. И после почти каждый месяц заезжал проведать. Он с моим дедушкой вместе на фронте воевал.
– Тебе много осталось вязать?
– Еще один рукав.
– Ну вяжи. Потом сама разберешься, кому лучше подойдет. Кроме тебя никто в этом разобраться не сможет.
Между тем и в самое тяжелое время жизнь продолжает идти своим чередом. Не только умирают, разлучаются, но и рождаются, играют свадьбы люди. Торжествуют любовь и дружба над злом и враждой. Наступил день свадьбы и в осиротевшей семье Будулая. Выдает он замуж свою дочь. Приехал, наконец, из Казахстана отец ее жениха, высокий и седой немец, и сразу же решил сыграть в своем доме свадьбу. Русская жена его хлопочет по дому, хозяин встречает гостей, но дороже всех ему отец невесты, цыган Будулай, которого Карл Карлович, так зовут отца жениха, не знает, на какое место посадить. Все больше прибавляется за столами, расставленными через открытые двери на обе половины дома, гостей. Много среди них местных жителей, есть и немцы, есть русские казаки с лампасами. Во главе стола, как обычно, сидят жених и невеста и целуются они по русскому обычаю под крики «горько!». Вскоре гости начинают петь песни. Карл Карлович, сидя рядом с Будулаем, вполголоса разговаривает с ним:
– Нет, Будулай Романович, вас мы никуда не отпустим, будем все вместе жить. – По-русски Карл Карлович говорит совсем хорошо, четко, может, потому, что у него русская жена, которая в отсутствие мужа оставалась с сыном в волжской степи. – Вы на фронте в казачьем корпусе служили?
– Да. Не в Кубанском, а в Донском, – отвечает Будулай.
Казак с лампасами поясняет:
– В нашей Двенадцатой дивизии, в разведке. Не одного языка на своей спине приволок.
Другой, молодой, казак, тоже с лампасами, дергает ветерана за локоть:
– Ты, отец, соображаешь, что говоришь? Где ты сейчас находишься? Еще неизвестно, кто был среди этих языков.
Между тем Карл Карлович спокойно продолжает расспрашивать у Будулая:
– А под Будапештом это ваш корпус воевал? – И, обращаясь через стол к другому, еще более старому, но полному розовощекому немцу, он сообщает Будулаю: – А это мой старший брат, Генрих Карлович. Но только по-русски он знает всего несколько слов. Правда, Генрих?
– Гитлер капут.
Ветеран казачьего корпуса добавляет вполголоса:
– Еще яйки, млеко, век.
Брат Карла Карловича слышит это через стол и подтверждает со смехом:
– Яйки, млеко, ку-ри-ца.
– Вот-вот, – мрачно соглашается ветеран казачьего корпуса.
Карл Карлович продолжает:
– Мой брат под Будапештом в корпусе Галле служил.
Будулай говорит Карлу Карловичу:
– На озере Балатон нашему корпусу от корпуса Галле плохо пришлось.
Карл Карлович переводит его слова брату. Будулай продолжает:
– Они хотели нас в Дунае выкупать.
Карл Карлович переводит его слова брату. Брат радостно кивает головой:
– Я, я! Дунай, казаки, Дон.
Будулай продолжает:
– У нас все обозы с боеприпасами оставались на том берегу, но мы все-таки отбились. А когда навели переправу, погнали этого Галле через всю Венгрию. Вы переведите ему.
Карл Карлович переводит, его брат опять радостно кивает головой:
– Будапешт капут, война финиш, Гитлер капут.
Ветеран казачьего корпуса с удовлетворением говорит:
– Веселый немец. И память у него хорошая. – Протягивая через стол бокал с вином, предлагает брату Карла Карловича чокнуться с ним: – Давай по старой дружбе выпьем с тобой.
Они пьют. Пьют другие за свадебным столом. Целуются жених с невестой. Но только перед Будулаем стакан с вином