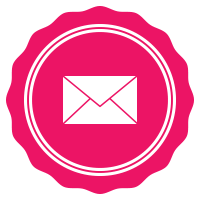- Зато у меня, Алексей Владимирович, есть, - решительно заявила Короткова.
- Но, если Антонина Ивановна, как здесь говорили...
Короткова не дала ему закончить:
- Именно поэтому я и не могу согласиться. По той самой дружбе, на которую здесь Неверов намекал. Мы с Кашириной действительно старые друзья, но что-то она меня к себе давно уже не зовет. Закрылась у себя на подворье, на яру, и сидит. Раньше я и без приглашения к ней заглядывала, как только ему мимо, так и подверну, а теперь не решаюсь. Было совсем уже направлюсь - и в последний момент трусливо проезжаю мимо. Боюсь, как бы она не подумала, что это я к ней из жалости. Я и сама всяких жалельщиков терпеть не могу, ну, а ее-то я, слава Бог, знаю. Если догадается, что приехала по поручению райкома устраивать ее семейную жизнь, то, пожалуй, придется мне после этого навсегда к ней дорогу забыть. - и, вприщур поглядев в сторону яра из-под метелок своих обгоревших на солнце ресниц, Короткова повторила: - Я-то ее знаю. Если полюбит, то полюбит, а отвернет - так наотрез. А мне бы, Алексей Владимирович, ее дружбу не хотелось терять. Поздно уже новых друзей заводить.
- Ну что ж, видно, не миновать Сухареву доводить это дело до конца, - заключил Егоров. - Хоть он здесь и единственный неженатый среди нас. - И скупая улыбка впервые тронула его губы.
Задвигали стульями, затолпились к выходу члены бюро.
- Задала нам сегодня твоя Каширина жару, - пропуская Короткову в двери впереди себя, попенял Неверов.
- Почему же, Павел Иванович, моя, а не твоя?
- Все-таки не скажи...
Уже у самого порога Короткову догнали слова Егорова:
- Вас, Антонина Ивановна, я попрошу остаться.
И после того уже, как остались они в опустевшем кабинете вдвоем, он пояснил:
- У меня, Антонина Ивановна, все время было такое ощущение, что вы чего-то не договаривали, а вам есть что сказать.
- Есть такие вещи, Алексей Владимирович, о которых и язык не поворачивается говорить.
- Но все же мне одному вы могли бы рассказать?
- Только то, что я знаю. Но знаю я далеко не все.
На исходе дня издали, на дымящемся заревном небе, Красный яр еще больше мог напомнить собой какую-то большую степную птицу, парившую над Задоньем, на своих распростертых крыльях.
* * *
С наступлением весенних дней, когда подсыхали в степи дороги, Никитин все чаще сам садился за руль своей «победы», давая шоферу отдых. Тот и рад был помочь дома жене по хозяйству: вскопать огород, поднять на опоры в саду виноградные лозы.
Привычку ездить быстро Никитин сохранил еще с фронта. Его крупные загорелые руки уверенно лежали на белой, как слоновая кость, баранке руля. Под весенним утренним солнцем все сверкало и отливало глянцем: и молодая темно-зеленая листва виноградных садов, и светло-зеленая, а с обратной стороны серебряная листва на тополях в пойменном лесу, и затерянная среди верб излучина старого Дона, и как будто плавающий в воздухе игрушечный куполок станичной церкви. Сверкали шиферные крыши разбросанных по лугу полевых станов, животноводческих ферм, как скирды сена, припорошенные снегом. Нельзя было и представить, Что где-нибудь еще могли быть столь же красивые места. Все так широко, округло, беспредельно!
По лицу своей невестки, которую Никитин подвозил по пути к школе или же вез из школы обратно домой, он видел, что и она не оставалась ко всему этому равнодушной. Но ему хотелось удостовериться:
- Нравится?
Она подтверждала:
- Очень.
Он открывал все стекла машины, и внутрь врывался степной ветер. У Ирины светились оживлением глаза, на щеках зацветал румянец. Рукой с тонким золотым колечком на безымянном пальце она придерживала волосы. Были они у нее черными до синевы. И вся она была какая-то жгучая.
И после того, как Никитин уже высаживал ее у станичной десятилетки, а сам по проулку поворачивал налево, в степь, в машине еще долго пахло ее духами. Дорога поднималась в степь между рядами виноградных садов, и оставшийся в машине запах духов смешивался с таким же тонким, почти неслышным запахом зацветающих виноградных лоз.
Выехав из станицы наверх, в степь, и оглядываясь, Никитин видел, как мелькает по улице по направлению к школе ее весеннее платье. Иногда это было такое же зеленое платье, как листва на молодой виноградной лозе. Иногда голубое или ослепительно белое. А иногда и ни с чем не сравнимого красного цвета.
Ее и по одежде можно было узнать, что она не из местных. Из того же самого количества ситца, полотна или искусственного шелка, из которого другая женщина умела скроить себе всего лишь одно платье, у нее получалось два, и когда ее коллеги по школе, разглядывая в учительской ее очередную обновку, начинали недоверчиво спрашивать, как это ей удается, она отвечала:
- Представьте, без особенных усилий. Во-первых, не следует уподобляться монашкам и закрывать от солнца то, что тоже хочет радоваться солнцу, а во-вторых, надо раз и навсегда сделать выбор: или тонкая талия, или пироги со сметаной.
Ее дебелые коллеги не прощали, конечно, этих намеков, и с некоторых пор излюбленной темой разговоров в учительской стали разговоры на тему о степени падения современных нравов. Иногда за такими разговорами учительницы не слышали звонка, возвещавшего о конце перемены. При этом, несмотря на различия в оттенках мнений, все они в конце концов единодушно приходили к выводу, что абсолютно недопустимо, чтобы учительница, требующая, чтобы ее ученицы носили косы, самая предпочитала носить на голове подобие скирды, взлохмаченной ветром.
Ирина Алексеевна обычно, слушая эти более чем прозрачные разговоры, молча улыбалась. Это-то, может быть, больше всего и выводило из себя ее коллег. Не выдерживая, какая-нибудь обращалась к ней:
- А что думает об этом уважаемая Ирина Алексеевна?
Спокойно поправляя рукой свою «скирду», она, в свою очередь, спрашивала:
- А почему, допустим, все без исключения ученицы непременно должны носить косы?
Всеобщее удивление и возмущение после ее слов в учительской было неподдельным.
И у директора школы, бывшего подполковника, который однажды смущенно крякнул при виде ее нового платья-сарафана, она немедленно поинтересовалась:
- Некрасиво?
- Нет, этого я бы не сказал, - багровея под ее взглядом как школьник, испуганно заверил директор. Я бы сказал, совсем наоборот. Но если учесть, Ирина Алексеевна, степень вашего влияния на учащихся...
- У моих учащихся, Максим Максимович, снизилась успеваемость?
- Ваш класс, Ирина Алексеевна, лучший в школе, - твердо сказал директор. - лично у меня никаких к вам претензий нет. Однако приходится считаться и с другими факторами. Например, с мнением тех же родителей.
- Они, Максим Максимович, жаловались на меня?
Директор взмолился:
- И этого, Ирина Алексеевна, я вам не говорил. Я лишь хотел сказать, что не каждый сможет это понять. Среди родителей могут оказаться люди с предрассудками. Все же нельзя забывать, что это не город, а казачья станица.
- А паранджу, Максим Максимович, в вашей казачьей станице не носят?
После этих ее слов он счел за самое благоразумное от дальнейшей дискуссии с нею уклониться. Лишний раз он убедился, что попадаться к ней на зубок опасно. И в конце концов не его, не мужское это дело - мерить сантиметром длину женских платьев. Говоря откровенно, лично ему даже нравились ее всегда яркие, всегда неожиданные наряды. Сама учительская, когда Ирина Алексеевна появлялась на пороге, как-то молодела. К тому же Максим Максимович давно уже убедился, что высота нравственных устоев далеко не всегда соответствует длине платьев. Пусть кто хочет, тот и вооружается сантиметром, а он не будет. С него вполне достаточно и этой единственной попытки, предпринятой им не без воздействия своей жены, которая потеряла покой с тех пор, как новую хорошенькую учительницу назначили к ним в школу. Честно говоря, он просто-напросто бестактность совершил, затеяв с Ириной Алексеевной весь этот разговор. Если разобраться, для этого у него совсем не было оснований. У нее действительно самый успевающий в школе класс.
Если же его жене нравится, пусть сама и вооружается сантиметром. Это в ее духе, она готова ревновать его к каждой юбке. Но от того, что сама шьет платья ниже колен, успеваемость и дисциплина у нее в классе не сделались лучше.
Не в первый, но теперь уже наверняка в последний раз позволил он ей вмешаться в его взаимоотношения с учительским коллективом и до сих пор не может избавиться от чувства мучительного стыда, что разговаривал с человеком как стопроцентный ханжа и невежа. Как он мог до этого докатиться?..
И дома от ее платьев даже зимой всегда веяло так, будто где-то рядом цвела виноградная лоза. В то время как от Григория, ее мужа, который возился в своей ветлечебнице с коровами и свиньями, всегда пахло креолином. А последнее время все чаще по вечерам, когда он возвращался домой, припахивало спиртным, чего прежде никогда не замечала за ним Антонина. Раньше, бывало, Никитин даже подсмеивался над Григорием, когда тот в воскресенье, выпив налитую ему рюмку, потом долго не мог откашляться, тряс головой.
Теперь же, когда он вечером возвращался из ветлечебницы, издали можно было увидеть, как его велосипед выписывает на дорожной пыли восьмерки. Хуторские женщины, провожая его взглядом, покачивали вслед головами, а ребятишки весело показывали друг дружке на пыльной дороге его затейливые узоры.
Как-то вечером донеслось до слуха Антонины с половины дома, занимаемой молодыми, как Ирина презрительно сказала пристававшему к ней с пьяными нежностями Григорию:
- Разве таких любят?
Вдруг совсем протрезвевшим голосом Григорий ответно спросил у нее:
- А таких, как ты?
Ирина немедленно переспросила:
- Каких «таких»?
- Ты и сама знаешь, - уклончиво пробормотал Григорий.
- Может быть, и любит... кто-нибудь, - не сразу ответила Ирина.
Антонина поспешила закрыть на их половину дверь, чтобы не слышать продолжения этого разговора.
По воскресеньям, когда вся семья в одно время сходилась за столом, обмениваясь теми новостями, что у каждого накопились за неделю, у Никитина с Ириной обычно начиналась словесная игра. Заранее посмеиваясь, он требовал от нее последних донесений с фронта ее войны с директрисой из-за длины волос и юбок. В свою очередь, у него каждый раз тоже непременно находилось для нее что-нибудь смешное.
- До тех пор никак не мог сообразить, - рассказывал он, - почему наши старухи совсем перестали ко мне в кабинет заходить, пока не пришла тетка Мавра за направлением в дом престарелых. Сперва она сунулась с порога и - назад, а потом перекрестила на полу ковер, подобрала юбки и ко мне. Только тут я вспомнил, что ковер ко мне в кабинет попал прямо из алтаря при распродаже церковным советом излишков божественного имущества. А в алтарь, как известно, женщинам и кошкам вход строго-настрого запрещен.
И, рассказывая об этом Ирине, он до слез смеялся, запрокинув голову на спинку стула. Антонина давно уже не слышала у него такого молодого смеха. Ирина смотрела на него и тоже неудержимо хохотала, прикладывая к щекам ладони.
Смотревшей на их веселье Антонине становилось как-то не по себе. То, над чем они смеялись, действительно было смешно, и все же этого недостаточно было, чтобы предаваться столь бурному веселью, совсем забыв, что были здесь еще и другие люди. Она видела, что и Григорий, не поднимая глаз от тарелки, улыбается одним углом рта, неохотно.
Они оставались за столом и после того, как Григорий, поев, уже уходил на свою половину дома.
- Сейчас, сейчас, - не оглядываясь, рассеянно отвечала Ирина ему, звавшему ее к себе.
И тут же опять поворачивалась к Никитину с готовностью посмеяться над тем, что он еще скажет. Хотя и не всегда можно было над этим смеяться. Однажды Антонина не удержалась, когда он рассказывал, как молодой станичный поп спрятался у своей прихожанки под кровать от нагрянувшего мужа:
- ...А ноги в шерстяных носках из-под кровати торчат. Муж до утра тренировал его барабанить пятками по полу. Только потянется к ружью на стене, как батюшка опять начинает отбивать дробь.
Постукивая кулаками по столу, Никитин показывал взахлеб смеющейся Ирине, как это получалось у попа. У Антонины испуганно вырвалось:
- А если б он его убил?
Коротко, не взглянув в ее сторону, Никитин бросил:
- За это, Антонина Ивановна, теперь не убивают. Другое время. - И вновь продолжал показывать Ирине, как это получалось у станичного попа.
Чего это ему вздумалось ее Антониной Ивановной величать? А несмышленый внук, Петушок, при этом так и скакал на коленях у деда.
Только у нее, у Антонины, и не оказалось под рукой каких-нибудь новостей, которые тоже можно было бы ввернуть в разговор. Кроме все одних и тех же связанных с внуком, с огородом и с обычными хлопотами по хозяйству, совсем неинтересных для них. Какие у нее могли быть новости, если теперь и она по целым дням ни на шаг не отлучалась из дому и к ней почти не заглядывали люди. За исключением Настюры Шевцовой, которая пока не забывала ее.
С тем большей жадностью набрасывалась Антонина с ласками на внука. С запоздалым раскаянием вспоминала, что даже Гришу, своего сына, не пестовала так. Даже он, ее первенец и единственный, когда был таким же крохотным, не занимал в ее жизни и ее сердце такого места. Может быть, потому, что совсем молодая еще, глупая была, а, может, и потому, что другое было время, и ее жизнь, не то что теперь, заполнена была совсем другим.
Это теперь она может и купать своего внучонка каждый день, и собственноручно обшивать его, и чутко ловить, чтобы потом пересказать другим, каждое новое слово из его косноязычного лепета. Удивительно, как этим ручонкам удается так безраздельно завладевать сердцами взрослых. И совсем уже удивительно, как в таком маленьком человечке могут вдруг выразиться черты и повадки - нет, даже не своих родных отца или матери, а неродного деда. Та же степенность и так же - это когда Петушок уже стал на свои ножонки - пройдется взад и вперед по комнате, сунув за пояс штанишек большой палец.
Антонина безотчетно радовалась, глядя на него, а Никитин при этом начинал бурно хохотать и, подхватывая внука на руки, подбрасывая его над собой, кричал:
- Сразу видно мужчину!
После этого у них поднималась такая возня, что даже невестка Ирина, отрываясь от тетрадей, сердито кричала им с соседней половины, чтобы они убирались во двор.
Сразу присмирев, Никитин послушно удалялся с внуком на руках, сконфуженно поясняя ему:
- Тише, Петушок, а то твоя мамка не успеет проверить все тетрадки.
И чем дальше, тем все больше удивлялась Антонина, как это ее сын Григорий мог оставаться совсем равнодушным к своему сыну. Ни разу не видела, чтобы взял его к себе на колени или же, допустим, смастерил, как тот же дед, из спичечной коробки, из щепок, а то и просто из арбузных корок какую-нибудь тележку или другую незамысловатую игрушку. Не говоря уже о том, чтобы порадовать своего первенца купленными в станичном сельпо дудочкой, цветными кубиками, самосвалом с механическим заводом.
- Ты, мать, теперь у нас начхоз, - говорил Никитин, - а от этой фигуры на фронте всегда зависела бóльшая половина успеха. Фигура, можно сказать, историческая.
Ей нравились эти слова, хотя и непривычно пока было, что он стал называть ее уже не по имени, а матерью. А последнее время все чаще бабкой.
Но ведь так оно и было. Самое главное было не в словах, а в том, что ей, в избытке хлебнувшей одиночества у себя в доме на яру, теперь сразу привалила такая большая веселая семья. И если, правда, от нее зависит, чтобы в их семье все было хорошо, она постарается сделать для этого все, что в ее силах. В том числе и для того, чтобы ничем посторонним, лишним не омрачалась молодая жизнь ее сына Григория с женой Ириной.
Ей давно уже показалось, что между ними что-то происходит. Ни от Григория, ни от невестки не слышала она, чтобы они когда-нибудь жаловались ей друг на друга, и чужому взору ни за что бы не уловить тех искр, которые пробегали между ними. По видимости все оставалось у них как прежде. Но на то и мать она была, чтобы увидеть то, что не могли увидеть другие. Как бы они ни скрывались и как бы не береглась она того, что происходило на их половине дома, нельзя было, живя под одной крышей, до конца уберечься.
- Опять от тебя, как из бочки. Каждый день. После этого ты на что-то еще претендуешь.
- Ты же знаешь, почему я стал пить. Давай, Ириша, скорее уедем отсюда. Мы еще только начинаем жить. Я тебе ни единым словом не напомню.
- А я и не считаю себя виноватой. Когда-то, когда мы еще были студентами, ты говорил, что выше любви ничего не может быть. Другой бы на твоем месте знал, как надо поступить. У тебя просто ни мужества, ни гордости нет.
- Как ты не поймешь...
Тут Антонина неумышленно напоминала им о своем присутствии, зацепив ногой порожнее ведро, и они замолкали.
Ничего определенного, конечно, не понять было из их слов, за исключением того, что прежних отношений уже не существовало между ними. Но в одном из того, что Антонина услышала, она была полностью согласна со своей невесткой: выше любви ничего не может быть. В это Антонина уверовала еще с тех пор, когда Никитин прятался у нее в яме от немцев, и она ловила те редкие моменты, когда можно было проскользнуть к нему.
Сердце ее возмущалось против собственного сына. По всему видно, что ревнует он, глупый, жену к чему-то прошлому, а к чему можно ревновать, если все, все без остатка смывает любовь, как чистой слезой. И после этого человек как будто только что нарождается на белый свет. Он уже совсем другой, новый.
Согласна она была и с теми словами Ирины, что человек никогда не должен терять своей гордости. На собственном опыте знала, что как бы для нее ни были невыносимо тягостны воспоминания о том дне, когда она, не помня себя, ехала с заседания бюро райкома, как будто бежала от погони, и как бы ни раскаивалась она еще и теперь, что поддалась тогда чувству обиды, ее всегда тайно радовало и утешало сознание, что ни своего достоинства, ни своей гордости она тогда перед Неверовым не уронила. Никто потом так и не узнал, что скрывалось за ее спокойствием, которому так удивлялись все люди.
Долго скрывая от Никитина свои наблюдения, она наконец решилась поделиться с ним:
- По-моему, Коля, что-то неладно между ними.
- Что же именно? - медленно закуривая, поинтересовался Никитин.
И после того, как она пересказала ему разговор Григория с Ириной, переспросил:
- Так прямо и сказала?
- Да, говорит, выше любви ничего не может быть. Конечно, Коля, как женщина, я с нею согласна, а как матери, мне все-таки Гришу жаль. Он последнее время на себя не стал похож. Ты же знаешь, что раньше он никогда так не пил. А, может, Коля, у них все это еще по молодости и потом пройдет? - Приподнимая на подушке голову, она с надеждой заглянула ему в глаза. - У молодых, говорят, это бывает, пока они как следует не привыкнут друг к другу. Правда, у нас с тобой, Коля, этого не было, я к тебе сразу привыкла. Как ты думаешь, пройдет у них, а?
Не дождавшись от него ответа, сама же и успокоила себя:
- Должно пройти. Делить им между собой нечего. И Петушок у них растет. - И окончательно успокаиваясь от своих слов, совсем повеселела: - Все еще наладится, правда, Коля?
- Может быть, - отвечал Никитин, раскуривая новую папиросу и вставая с постели к форточке, открытой в сад, пуская в нее клубы дыма. - Хотя и давно бы уже пора было наладиться. Вообще-то, мать, тебе лучше в их дела не вмешиваться, они сами разберутся.
Она испугалась.
- Что ты, Коля, я и не вмешиваюсь никогда, откуда ты взял? Я и тебе долго не решалась рассказать, думала, все настроится само собой.
Щелчком выстрелив из форточки в сад окурком, он повернулся к ней:
- Принесла бы ты лучше мне из погреба банку холодного вина.
Она удивилась:
- С чего тебе вдруг захотелось?
- Сам не знаю. Должно быть, с духоты или с твоих жирных щей. Запить надо.
- А, может, лучше холодной простокваши принести?
- Нет, это ты лучше посоветуй своему Григорию на простоквашу перейти, - насмешливо сказал Никитин.
* * *
Вдруг приметила за собой, что чаще обычного в течение дня наведывается в низы дома, в погреб, где у нее стояли бочки и бочонки с вином. Виноградное вино у нее в доме никогда не переводилось, как у всех здесь, у кого были свои виноградные сады, а сады здесь тоже были почти у каждого. Случалось, и на трудодни в колхозе выдавали вино. Низовские казаки рождались и умирали с вином, а женщины здесь пили не хуже мужчин. Особенно после войны вдовы.
Но Антонина раньше никогда не пила. Может, потому, что некого ей было оплакивать и не нужно было предаваться горьким воспоминаниям об утраченном счастье. Ее счастье безотлучно было при ней, рядом. Не пила, если не считать праздников и тех летних жарких дней, когда, спускаясь в погреб, обычно освежалась одним-двумя стаканами холодного вина: оно хорошо освежало. И всегда это случалось не то чтобы специально, а невзначай. Если бы не какое-нибудь дело заставляло ее спускаться в погреб, она бы и не вспомнила до очередного праздника, что у нее там стоит вино.
Теперь же она непременно стала находить убедительные причины, чтобы на дню несколько раз спуститься в погреб. И когда впервые заметила это за собой, испугалась. Тут же с уверенностью решила, что, когда нужно будет, совладает, справится с собой. Отрежет раз и навсегда. Но пока что не станет. Вино и обостряло что-то в душе, настраивало на какую-то ей самой непонятную печаль, жалость к самой себе, и как-то помогало справляться с ними. Допьяна она никогда не напивалась, а в моменты легкого опьянения ей теперь всегда с необыкновенной яркостью приходили воспоминания о том, что теперь издалека представлялось столь же ослепительно неповторимым, сколь когда-то оно было невероятно, несказанно трудным.
Особенно, помнилось, трудно стало ей, когда от взора неотступно следующего за ней денщика, Иоганна, днем уже невозможно было ускользнуть ни на минуту и у нее оставались только ночи. Те глухие часы, когда он засыпал, часто и в обнимку с опустошенной им винной бутылью за столом. А после налета романовских партизан на станичную ортскомендатуру вокруг всех домов с квартирующими офицерами стали выставлять на ночь часовых. Каждую минуту они могли окликнуть ее с улицы, когда она пробиралась в глубь своего сада к яме, где прятался Никитин.
Вспоминая об этом теперь, она всегда приходила к выводу, что не последующие, а именно эти дни были самыми счастливыми в ее жизни. Когда она уже открылась себе во всем, призналась себе, что любит его, и с нетерпением всегда ожидала того часа, когда опять будет прокрадываться к нему в бурьяны, под яр. Это было сопряжено с опасностью, плоские штыки немецких часовых блестели из темноты по всем четырем углам квартала, но для нее это были часы ее свиданий. Да, да, это были ее свидания, потому что к тому времени она уже поняла, что для нее он был не просто раненый лейтенант, которого надо спрятать и уберечь от глаз немцев. И если бы даже ее сад весь был населен не деревьями, а солдатами, она все равно проползла бы к нему между ними. Это любовь научила ее быть такой по-звериному осторожной, хитрой. Неурочная и нечаянная, впервые разбудившая ее тридцатилетнее сердце.
И тот же собственный сад, такой знакомый, казался ей теперь совсем иным, новым. Если светила луна, тени падали на землю от стволов деревьев, от виноградных кустов, а если луны не было, стволы и сохи светились из темноты. По нападавшей в корнях деревьев листве с шорохом бегали ежи, заставляя часовых на улице вскрикивать «хальт» и лязгать затворами карабинов. Она припадала к земле и, переждав, опять ползла. Удивительно гибким, послушным оказалось ее большое тело.
До сих пор она явственно слышит этот запах теплой соломы и самосадного табака, дышавший ей в лицо из ямы, в которой лежал Никитин. Должно быть, с тех пор и сиреневые цветочки дерезы, в которой пряталась яма, стали ей как-то милее. Когда она теперь в саду и в огороде выпалывала эту сорную траву, выдергивала ее стебли руками, ей становилось немного грустно.
Но все же ее, эту вредную дерезу, надо было не только подрубать лезвием тяпки, но и лопатой подкапывать, выдергивать с корнем. Потому что, если ее не выдернуть до самой тонюсенькой ниточки, она потом все равно опять вырастет и опять будет до самой осени цвести своим мертвенно-сиреневым цветом.
* * *
С утра до обеда она мотыжила на огороде, а перед самым обедом нагрела воды, чтобы искупаться, смыть с кожи горький пот и красноватую суглинистую пыль, взбитую тяпкой. Внука, как всегда в это время дня, накормила и уложила спать, а все остальные должны были вернуться с работы только к вечеру, никто не должен был ей помешать.
Уже искупавшись, вытерев полотенцем ступни ног и разгибаясь, увидела себя в зеркале. Никогда прежде не рассматривала себя. Брезговала. Не смогла бы хорошо искупаться и при ком-нибудь из посторонних, даже если это была женщина. С детства всегда стыдилась купаться при других. И теперь, бывало, зимой, нагрев в субботний вечер воды, выгоняла Никитина во двор покурить и запиралась. Он ходил вокруг дома под окнами и ворчал:
- Выдумала, нашла от кого запираться. Ты, должно быть, одна на всем свете такая.
Но по голосу его можно было понять, что ему это нравится. И летом на Дону у нее было свое укромное местечко среди верб, где ее никто не мог увидеть. Больше всего не любила, когда женщины, спустившись после работы к Дону, целой бригадой зайдут в воду и начинают обсуждать, кто худой, кто толстый, у кого какие бедра и ноги, делясь всякими подробностями о своих мужьях и других знакомых мужчинах.
Если это можно было как-то объяснить, когда была война и в первые годы после войны, когда в станице на одну женщину приходилось по пол-инвалида, то теперь и в этом жизнь почти выровнялась, пора бы уже переставать жить по законам военного времени.
Теперь же поближе подошла к большому трюмо и впервые в жизни взглянула на себя нагую. Большая смуглая женщина стояла перед ней. Вдруг вспомнилось ей, как Никитин еще не так давно говорил ей, что грудь у нее как два краснобоких яблока и в поясе она как девушка, несмотря на то, что рожала. Теперь ей захотелось узнать, что же могло измениться с тех пор, какие произошли с ней перемены. Конечно, летят годы, и для нее они не могли пройти даром. Но и не так-то состарилось ее тело - плечи, ноги, грудь, - чтобы пренебрегать ею, как это он стал себе позволять. Конечно, ей уже не тридцать, но и не расходовала она себя почем зря, не баловалась. И до Никитина никого из других мужчин, кроме мужа, не хотела знать, а денщик - это как черный сон. Это было не с нею, а с какой-то другой женщиной. Не погуливала, хотя и подкатывались к ней. И тогда, когда еще была она знаменитым на всю область председателем колхоза, портреты ее печатались в газетах, а Никитин не подавал о себе вестей, даже из других районов засылали к ней сватов, и еще сравнительно недавно, лет пять назад, вдруг повадился причаливать прямо к ее подворью, к яру, на своем «Альбатросе» инспектор рыбоохраны, пока она не пригрозила ему, что скажет Никитину.
Нет, никаких особых перемен она не нашла у себя. Вот только глаза стали какими-то беззащитными, ей самой не понравился их тревожный блеск.
И еще, глядя на себя в трюмо, вспомнила, как Никитин любил брать в руку и переливать в пальцах ее волосы. Они у нее были такие длинные, что, когда, расчесывая, она распускала их, они падали ниже пояса, закрывая ей плечи и спину. Иногда полусерьезно-полушутливо она начинала угрожать Никитину, что возьмет и отрежет их, надоела ей эта вечная морока - ни расчесать, ни промыть хорошо, и летом под ними жарко, как под пшеничной копной. Да и годы ее уже не те, чтобы накручивать косу. Когда она говорила это, он всегда пугался:
- Смотри, чего доброго, и в самом деле не сдури. Может, я тебя за твои косы и полюбил.
Теперь же ни разу не взглянет в ее сторону, когда она распускала их по плечам, расчесывая и укладывая вокруг головы венцом. Теперь ему никакого дела не было до того, что при этом они как будто плавятся, пронизанные косо падавшим из окна утренним солнцем. Еще ни единой ковыльной нити не поблескивало в них.
Она хорошо видела, что, раскуривая в это время свою утреннюю папиросу, сидя на кровати, он смотрит не на нее, а на другую половину дома, где невестка, как всегда, собираясь в школу, прихорашивается перед шифоньером. Волосы у Ирины были даже не черные, а как будто фиолетовые. Под гребешком они трещали как железные. И все-таки он, покуривая, терпеливо ожидая, когда Ирина закончит свои сборы, смотрел на них, а не на этот пшеничный водопад, в котором путалось утреннее солнце.
На улице их поджидал в машине правленческий шофер.
Ее взгляд вдруг увидел ножницы, надетые на гвоздик сбоку трюмо. Еще и сама не представляя, что может произойти, она сняла их с гвоздя, взяла с комода большой деревянный гребень и, перекидывая мокрую косу со спины на грудь, пропуская волосы через гребень, отрезала их близко от шеи. С шорохом они упали к ее ногам. И когда, поворачивая голову через плечо, она снова глянула в зеркало, перед нею стояла совсем незнакомая ей женщина с такими же короткими, как у невестки Ирины, волосами.
От испуга она закрыла лицо ладонями.
Но, быть может, самое страшное для нее заключалось в том, что, когда вечером все собрались и она вышла из кухни к столу с этими коротко остриженными волосами, он, невидящим взглядом скользнув по ней, даже не заметил ничего. Как если бы все оставалось по-старому. Только Ирина, похоже с сожалением, коротко взглянула на нее. Но тоже ничего не сказала, низко опуская голову.